Чем дышишь, Америка? [Владимир Александрович Симонов] (epub) читать онлайн
Книга в формате epub! Изображения и текст могут не отображаться!
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]

3 Механическое сердце и живые души
Кто мы, дети малые или умудренные люди, повелевающие технологией? Достаточно ли мы разумны, чтобы справиться с той загадочной мощью, какую выпускаем из бутылки? Вот вопрос, который меня тревожит. И я не знаю на него ответа.
Уильям Де Врис, выдающийся американский хирург
А все-таки оно бьется!
...И настал миг, когда он открыл глаза. В мягком свете больничной палаты, как в тумане, расплывались родные лица. Сын, дочь, жена Уна. Его руки шевельнулись — он словно хотел обнять всех сразу.
— Милый, ты еще любишь нас? — спросила Уна.
Он моргнул — утвердительно, энергично.
— А я думала, уже нет,— сказала она.— Ведь у тебя теперь механическое сердце...
По его лицу скользнула тень улыбки.
Первого декабря 1982 года в медицинском центре университета в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, была произведена первая в истории присадка человеку постоянного искусственного сердца. Его обладателем стал д-р Барни Кларк, бывший зубной врач из Сиэтла.
— Я бы с большим удовольствием оказался сотым, а не первым пациентом в таком эксперименте,— шутил Кларк за несколько часов до операции. Именно этот оптимизм, поразительное жизнелюбие, не говоря уж о редкой устойчивости психики, и склонили медицинскую комиссию к тому, чтобы отдать ему предпочтение перед другими кандидатами.
А их было немало. Сто тысяч человек ежегодно умирают в Соединенных Штатах от неизлечимой болезни, которая стремительно разрушала в последние месяцы сердце Кларка. По американским нормам в 61 год он был слишком стар для пересадки с использованием донора. А безнадежно усталый, перегруженный лекарствами мускул в его груди уже перекачивал за минуту всего литр крови вместо положенных пяти.
Впереди не было ничего, кроме смерти.
Или этой фантастической альтернативы из пластмассы, именуемой искусственным сердцем «Джарвик-7».
Кларк был знаком с Робертом Джарвиком, его главным создателем. Будущий пациент отдавал себе отчет, что эта конструкция — результат лишь одной из научных работ, которые ведутся в странах Запада и Востока не первое десятилетие. Насколько она совершенна?
Да и можно ли назвать что-то совершенным в сравнении с живым человеческим сердцем?
В лаборатории Кларк видел экземпляр «Джарвика-7» в действии. Он качал воду уже четыре с половиной года. Никаких поломок. Ни одного сбоя. Но как поведет себя этот добротно сконструированный насос, когда ему придется взять на себя святую роль постоянного сердца человека?
Эксперименты с временным механическим сердцем в США уже проводились. Техасский хирург Дентон Кули дважды делал такие операции, чтобы продлить жизнь больных до момента, когда будет найден подходящий донор. Оба пациента погибли. Зато теленок по кличке Лорд Теннисон жил с сердцем «Джарвик-7» 268 дней.
Итак, надежда пока измерялась месяцами...
Профессионал-медик Барни Кларк более или менее представлял себе, какие физиологические и психологические проблемы его ждут. Искусственное сердце Джарвика работает на сжатом воздухе. Он поступает от внешнего компрессора. Даже если бы все прошло удачно, Кларк до конца дней своих был бы прикован двухметровыми шлангами к тележке с аппаратурой весом около двухсот килограммов. Та в свою очередь постоянно подключена к электросети и резервным источникам электропитания. В идеале предполагалось, что Кларк будет передвигаться, толкая тележку впереди себя. Для этого и впрямь нужно железное сердце.
В минуту решения семья поддержала отца.
— На что мы надеемся? Что он вернется из больницы домой, будет рядом с мамой,— сказал журналистам сын Стивен, тоже врач по профессии.— Будет читать и писать. Смотреть телевизор. Играть с внучатами, не испытывать боли.
Они надеялись на лучшее...
И Барни Кларк подписал согласие на операцию. В документе пациент признавал: «Нет никакой гарантии, что пересадка искусственного сердца добавит дополнительное время к моей жизни. В действительности эта пересадка может сократить мою жизнь».
Она продлила ее. Без операции Кларка к тому времени не было бы в живых. А он уже на второй день делал движения руками, садился в кровати, покачивал ногами, пил воду и жидкие питательные составы. Цвет его лица и конечностей потерял синюшный оттенок.
Поначалу казалось, что Кларк не испытывал особого неудобства от присутствия в его грудной клетке механизма весом 280 граммов. Он не слышал щелчков алюминиевых колец сердечных клапанов. Его кровяное давление достигло 140 на 80, а пульс — 90 ударов в минуту.
Впрочем, эти показатели были выбраны врачами. Их ничего не стоило изменить одним поворотом рычажка.
Чудо сотворения первого человека с механическим сердцем потребовало семь с половиной часов. Его совершил 38-летний Уильям Де Врис, руководитель кафедры сердечно-сосудистой хирургии университета в Солт-Лейк-Сити.
В операционном театре звучало «Болеро» Равеля — чтобы снять нервное напряжение. В критический момент монтажа искусственного сердца был обнаружен технический дефект в его левом желудочке. Желудочек заменили. Но это была еще мелочь по сравнению с тем неведомым, куда дерзко вторглись Де Врис и его коллеги.
Хотя искусственное сердце не должно вызывать реакцию отторжения, возможность инфекции в районе соединения живых и искусственных тканей, по признанию авторов операции, изучена пока мало. Предположим, это произойдет. Пойдут ли хирурги на замену зараженного сердца запасным?
— Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь продумал все до конца,— честно признал в те суматошные, нервные дни Чейз Питерсон, один из медицинских светил университета штата Юта.
Но отсюда не следует, будто американские хирурги опередили свой звездный час, утверждал он. Нельзя приказать Галилею: «Не смотри на небо, а то увидишь там проблему, для которой еще нет решения...»
Что до Америки, то она смотрела на экран телевизора.
Хрупкое тиканье механического сердца заглушило все другие сенсации. Эйфория грозила подмять под себя трезвый прогноз. Ученые предсказывали, что к концу столетия для всех органов человеческого организма, кроме мозга и центральной нервной системы, будут созданы искусственные заменители.
Но лихие комментаторы мчались дальше. На горизонте — создание целиком «бионического человека», провозглашали они. Этот герой из пластика и стали, сокрушающий зло в бесчисленных телевизионных сериалах, вот-вот станет нашим современником.
Человечество вплотную приблизилось к мечте о бессмертии! Вопрос только в том, кому оно достанется. Не упустить бы случая...
Захлестнутые ураганом ажиотажа тысячи людей осаждали университет в Солт-Лейк-Сити просьбами заменить им сердце на механическое. Сердечные болезни остаются в США убийцей N°1. Они косят 650 тысяч американцев ежегодно. Поэтому больных в критическом состоянии хватает. Отсюда спрос на искусственное сердце, как на модное лекарство. А спрос в Америке не существует без предложения.
Мыслимо ли, чтобы дельцы, уже распродающие участки на Луне, не смогли быстро выбросить на прилавок хорошо подобранный ассортимент сердец от влюбленного до черствого?
Одна фирма, например, сходу завела речь ни много ни мало о ... 50 тысячах присадок искусственного сердца в год!
Такую же цифру назвал в те дни и Роберт Джарвик—но лишь как оценку возможной потребности в будущем Вместе с изобретателем искусственной почки Виллемом Колффом Джарвик владеет небольшой компанией «Колфф медикал», ведущей работы в области биоинженерии. Но их прогнозы куда более сдержанные. Переход производства искусственных сердец от экспериментальных образцов на массовый поток произойдет, по мнению ученых, не скоро. Больше всего их беспокоят не технико-медицинские проблемы, а коммерческие. Как бы чудо-прибор навсегда не остался в Америке «сердцем для богатых».
Роберт Джарвик этого не хотел бы. Искусственное сердце — дело всей его жизни. Своего рода исполнение семейной клятвы. Десять лет назад отец Роберта умер после операции на сердце. Молодому ученому претит сама мысль о том, что его изобретение может стать такой же монополией чековой книжки, как автомобиль «роллс-ройс» или бриллиантовое колье от Тиффани. Но пока Джарвик не видит возможности сбить умопомрачительную стоимость пересадки искусственного сердца. Тем более что большая часть суммы идет на оплату персонала, производящего операцию.
Пациенту-первопроходцу Барни Кларку продлили жизнь бесплатно. Другие лишены этого шанса.
Конечно, судьба механического чуда, рассуждали газеты в те дни, будет во многом зависеть от качества жизни, которое оно сможет обеспечить. «Джарвик-7» сконструирован так, что он автоматически приспосабливается к некоторым жизненным ситуациям. Например, как и человеческое сердце, ускоряет ритм в случае физической нагрузки — срабатывает автомат, реагирующий на усиленный приток крови. Но насколько все это сможет гарантировать сносные условия для существования?
Что если пациент придет к выводу, жизнь с пластмассовым мотором в груди не имеет смысла?
Американские экспериментаторы столкнулись здесь со сложной этической проблемой. Даже философы, привлеченные на помощь, пришли к заключению: сегодня больному невозможно заранее объяснить психологические и прочие последствия жизни, которая должна проходить «на привязи» у пока еще громоздкой аппаратуры. Выход, считают они, один. Пациент должен обладать исключительным правом на конечное решение.
Такое право подтверждалось в документе, подписанном Барни Кларком. Ему разрешали «прекратить эксперимент на любой стадии, в том числе и после операции».
Практически это означало нечто весьма мрачное. Предполагалось, что Кларк получил бы ключ, которым он мог в любой момент выключить компрессор своего механического сердца.
— Кому-то покажется, будто эксперимент, предусматривающий возможность самоубийства, не в ладах с моралью,— опередил критиков д-р Роберт Джарвик.— На практике же наш ключ не имеет никакого значения. Люди умирают тысячами способов — они поразительно изобретательны. Мы не можем отказать пациенту в том, что, на мой взгляд, составляет его право самому сделать выбор...
В те дни Барни Кларку было не до выбора. В медицинском центре университета штата Юта шла отчаянная схватка науки со смертью.
Обнадеживающее состояние пациента было недолгим. На исходе второго дня Кларка снова положили на операционный стол — у него началась утечка воздуха из легких в грудную полость. Причину осложнения устранили. На шестой день Кларк очнулся от сна, вызванного наркотическими препаратами, и спросил Де Вриса:
— Как мои дела?
— Хорошо,— ответил хирург.
В ту же секунду у пациента начались судороги, которые продолжались несколько часов. Врачи объяснили приступ «метаболическими и биохимическими расстройствами», вызванными побочным воздействием на организм различных медикаментов.
А черная полоса осложнений лишь начиналась..
Бывает, сердца разбиваются. Его всего лишь дало трещину — но в буквальном смысле слова. Утром 14 декабря в механическом сердце Барни Кларка лопнуло металлическое кольцо одного из клапанов. Кровяное давление катастрофически упало. Решение было принято в секунды: немедленная операция. Третья по счету.
Врачей также мучило подозрение: а нет ли кровоизлияния в мозг? Кроме того, днем раньше у Кларка обнаружили очаг бактериальной пневмонии в левом легком. Тысяча и одна напасть! Словно разъяренная вторжением пластмассовой ереси в свое царство, смерть атаковала со всех флангов
Де Врису и его бригаде понадобилось три часа, чтобы вторично заменить левую половину сердца с неисправным клапаном. Сам ремонт занял миг. Запасная сердечная камера, щелкнув, встала на свое место, словно крышка мыльницы
Как прозаична, на первый взгляд, эта механическая деловитость научного прогресса. Не посягает ли она на вечную романтику, которой окружено сердце? Думаю, нет. Искусственное — оно ведь дважды человеческое. Созданное человеком для спасения человека, это сердце дождется своих поэтов.
...На нем белая длинная рубашка, пижамные брюки, спортивные тапочки. Он делает медленные шаги, опираясь на металлическую конструкцию вроде высокого табурета. Только внимательный глаз может заметить шланг, выходящий из-под рубашки и струящийся по полу. Шланг жизни.
Таким предстал Барни Кларк перед американскими телезрителями в день юбилея: к тому времени механический аппарат стучал в его груди уже сто дней. Нелегкие это были дни. Но мужество пациента и дерзкий талант американских медиков продолжали разрушать вековое представление о том, будто без живого сердца нет жизни.
Она есть. Но какая? Об этом впервые удалось услышать из уст самого Кларка. Накануне юбилейного дня у него состоялся разговор с Де Врисом, который записали на видеомагнитофон.
Кларк почти шепчет, перемежая слова длинными паузами. Ему явно не хватает воздуха—дает о себе знать заболевание легких. На шее заметен вывод для подключения аппарата искусственного дыхания. Когда пациент говорит, трубочку закрывают пробкой.
А само пластмассовое сердце? Создает ли какие-либо неудобства?
— Почти нет,— сквозь линзы очков глаза Кларка светятся надеждой.— Знаете, довольно терпимо. Это такая вещь... к ней постепенно привыкаешь.
Как он оценивает пережитое за сто минувших дней?
— Было тяжело. Но у меня, да и у всех, кто пойдет той же дорогой, один выбор: или мы умрем, или решимся вот на такое... Само же сердце, оно качает без запинки. Справляется со своим делом...
По одну сторону больничной стены бьется страдающее, любящее механическое сердце. А по другую — шквал бездушного предпринимательства. Семью Кларков осаждают издательства, газеты, телекомпании. Норовят обскакать друг друга с мемуарами под заголовком вроде: «Бессмертие в грудной клетке».
Снес яичко ко христову дню и Голливуд. Выпускает на экраны фильм о хирурге, который вживил пациентке искусственное сердце и заодно влюбился в нее. Этакий Пигмалион со скальпелем.
Прогресс науки — прекрасная вещь и с точки зрения рядового американского домушника. Пока Барни Кларк отсутствовал по глубоко уважительной причине, его дом взяли и обчистили.
Подвиг пионера и проза жизни.
До последнего дня Барни Кларк отчетливо сознавал значение своей миссии. Продлевая собственную жизнь, он хотел продлить век всех, кому выпадет его судьба. Без первопроходцев человек никогда бы не победил малярию, не расщепил атом, не взлетел в космос.
— В конце концов,— как-то сказал обладатель первого в мире постоянного механического сердца,— мне очень приятно: я ведь могу помочь людям ..
На другой день после операции мне удалось взять интервью у Чейза Питерсона.
— Рано еще утверждать с уверенностью,— сказал он,— но наш эксперимент, думаю, не пройдет бесследно для прогресса мировой медицины. Уже сейчас мы получили данные о реакции сердечно-сосудистой системы на такие процедуры, какие раньше были немыслимы. В наших руках — абсолютный контроль над сердцем. Мы полностью управляем этим куском пластмассы. Наш кругозор расширяется, да как!
— Американская пресса пишет о «бионическом человеке», как о завтрашнем дне. Действительно ли мы близки к механическому бессмертию?
Питерсон морщится.
— Такие обещания очень не ко времени. Очень. По сути дела, мы еще не знаем, чего достигли. Не знаем, насколько успешен эксперимент. То есть нерешенных проблем хватает. Сделан лишь маленький шаг. Все в стадии исследовательских работ. Предстоит многое узнать, прежде чем мы поймем, принесет ли искусственное сердце благо кому-нибудь еще, не говоря уж о его массовом использовании.
Я напоминаю д-ру Питерсону о советско-американском соглашении в области научных исследований и разработки искусственного сердца. Его подписали еще в июне 1974 года. Не был бы прогресс человечества в этом важном деле более значительным, если бы на пути научного сотрудничества не городились политические заборы?
— Что и говорить! Международное сотрудничество медиков крайне необходимо. Если бы наши научные связи были более тесными, мы, американские ученые, это только приветствовали. Вы, конечно,—тоже.
А все-таки оно бьется! В специальной палате медицинского центра в Солт-Лейк-Сити раздавались в те дни легкие, неслышимые без стетоскопа щелчки первого в истории искусственного сердца, сокращающегося в живой человеческой груди.
Прекрасен этот ритмичный гимн во славу беспредельности человеческого разума.
Прометей по-американски
— Хозяйка, а, хозяйка?
Он стучит подвешенным к косяку железным кольцом. За дверью шаркают подошвы. Из щели выглядывает глаз. Один глаз среди тьмы. Он кажется экспонатом на черном бархате. Органом без тела.
— Нет, Боб, сегодня мыть окна не надо. Третьего дня мыли. Сегодня никаких для тебя работ. Иди, гуляй.
Боб Рейна бредет по улицам Окалы, городка во Флориде. Похоже, пустой будет день. Не удастся перехватить доллар-другой, подрабатывая по мелочам у соседей. Городишко маленький. Всем, кому только нужно, Боб лужайку подстриг, сад полил, дорожки подмел. За пять лет чего только не переделал.
Не смог переделать лишь порядок вещей, по которому как был он, Боб Рейна, сорока лет от роду, все последние пять лет безработным, так им и остался.
Сначала продал грузовичок. Ржавое его сокровище увезли — разберут, наверное, на запчасти. Часть, она иногда нужнее целого. На часть, бывает, спрос больше.
Потом сменил квартиру на жилье в юго-восточных трущобах Окалы. Зовется громко «студией», а на самом деле дыра дырой. Спальня, кухня, душ — все в одной клетушке, включая туалет за фанерной перегородкой.
Думал отбиться от счетов за аренду, электричество, газ, канализацию и прочая, и прочая. Но счета, как птицы в фильме Хичкока, снова набрасываются хищной стаей, ломятся в дверь, рвут тебя на куски.
Человека ведь тоже, наверное, можно растащить по частям. Как тот грузовичок...
За последние шесть недель Боб Рейна продал весь скарб, какой был, весь свой жидкий гардероб и остался в одних джинсах да красно-зеленой ковбойке с короткими рукавами
Долги все стучали клювами в дверь.
Настала минута, когда одной бессонной ночью Боб включил свет и подошел к зеркалу. На него смотрел практически здоровый мужчина с коротко стриженной лысеющей головой и привычными к труду, вполне действующими конечностями, не пораженными ни артритом, ни тромбофлебитом. По-видимому, все это представляло какую-то ценность. Говоря языком биржи, имело какую-то рыночную стоимость. Если не вместе, то по отдельности.
Назавтра Глория Томас, клерк местной газеты «Окала стар-бэннер», приняла платное объявление от человека в красно-зеленой ковбойке. Объявление было дешевым — всего три строки. Глория механически набрала их на экране дисплея... и ахнула. «Тут я подумала: да это же розыгрыш!»
Нет, оказалось, всерьез. Сверхсовременная аппаратура прогнала сквозь свои транзисторы, заложила в магнитную память, автоматически оттиснула на пленках фотонабора жутковатое, подходящее скорее моргу, чем газете, объявление:
** почка **
351-3345
Для справок
Не отыскав в доме и на себе больше ничего, что можно было бы продать, безработный Боб Рейна предложил на продажу часть самого себя.
В тот же день вокруг Боба взметнулся шквал газетных и телевизионных страстей. Клубок проблем, действительно, был затянут туго. Вот до чего довела народ «рейганомика» — до распродажи жизни по кусочкам?! Кому по карману почка для пересадки, а значит, жизнь—только богатеям?
И потом — эту мыслишку подкинули уже реакционные газетенки — кто такой этот Боб Рейна? Корыстный стяжатель эры трансплантации, сколачивающий состояние на чужом несчастье?
Пока телефон 351-3345 еще не заклинило от звонков репортеров, я успел связаться со «студией» в городке Окала, где рядом со стопкой неоплаченных счетов сидел человек и ждал предложений, чтобы заплатить за свет и газ куском своей плоти.
Легенда о Прометее в постановке Рональда Рейгана.
— Боб, отчего вы приняли это страшное решение?
— От отчаяния. Поставьте себя в положение американца, которому стукнуло сорок, а он ничего не достиг, не скопил ни гроша, от долгов дух не перевести, впереди ничегошеньки, никакой, как у нас выражаются, социальной безопасности. США, конечно, великая страна. И уровень жизни у нас, конечно, высокий. А вот я здоров, не лентяй, а остается только себя... собой...
Голос Рейны срывается. Я сам забываю элементарные английские выражения.
— Боб, а сколько... как дорого, вы хотите за... это?
— Куда к черту дорого! Я не стяжатель, каким меня кое-кто изображает. Только бы разделаться с долгами, встать на ноги. Я так наметил для себя: тысяч... двенадцать. Как думаете, не очень?
Я не знаю. Не знаю я, сколько стоит жизнь в их обществе. Вся целиком или в процентном отношении.
— В каком вы настроении, Боб? Не боязно?
— Операция, сами знаете, непростая. Всякое может случиться. Последствия разные. Это риск, на который я вынужден идти сознательно. Вы русский, и я вам вот что скажу. Я глубоко уважаю русских людей. Не встречался с ними, но много читал. Мне почему-то вспомнилось сейчас, какие у вас суровые зимы, как вы здорово сражались во вторую мировую. Вы крепкие, мужественные люди. Вы меня поймете...
Я сказал Бобу Рейне, что хотел бы продолжить рассказ о его странной судьбе. Он согласился.
Прощаясь, я вдруг неожиданно для себя, не взвесив толком вопрос, неуклюже поинтересовался: а не думал ли он продать что-нибудь еще, кроме почки?
Боб мог высмеять меня. Бросить что-нибудь резкое—а ну-ка, мол, попробуй сам. Но его ответ потряс меня своей непредсказуемостью. Он рассказал мне о психологии американца, о его сегодняшней тревоге и неуверенности больше, чем кипы здешней периодики.
— Понимаете,— просто сказал Боб,— если б я, скажем, продал роговицу глаза, потерял глаз, я бы стал калекой. Но не в этом дело. Я бы причинил себе увечье, юридически говоря, сам. Значит, власти не выдали бы мне пособие за потерю трудоспособности...
...Через неделю, к большому огорчению Боба Рейны, он все еще оставался человеком в полном комплекте. У него по-прежнему было столько почек, сколько дано природой.
Товар, так сказать, залеживался на прилавке.
В один из вечеров я снова связался с Рейной по телефону.
— Как дела, Боб? Объявились покупатели?
— Звонили человека четыре. Приценялись. Интересуются: почка-то доброкачественная или нет? Один спрашивает, не пьющий ли я. Другой — не сифилитик ли? Понимаете, когда человек от отчаяния выдирает из себя кусок мяса и кричит: «Купите!», у людей, естественно, появляются подозрения, как в продуктовом универсаме: а свежее ли?
Боб говорит, словно по лестнице поднимается. С одышкой, с паузами. В последнее время он ест раз в день, да и то, когда перепадет какой-нибудь мелкий заработок. А есть нужно: ведь организм хиреет и качество товара ухудшается. Хотя спрос на почку большой, так сразу не продашь. Оказывается, нужно, чтобы совпало что-то такое в клетках ткани. Чтобы при пересадке не случилось отторжения, понимаете? Был тут на днях в местном госпитале у доктора. Тот сказал: «Твой, брат, шанс найти подходящего больного один на тысячу». А ведь надо, чтобы еще был с деньгами...
Спрашиваю Боба, как он провел день, чем занимался?
— Занимался тем, чем занимаюсь последние годы. Ищу-рыщу работу. Ходил сегодня на конную ферму, у них в декабре — январе ожидается приплод, может, нужны руки для ухода за жеребятами. Не обнадежили. Нет, сбыть почку—это вернее будет. Уж я вот что думаю: не податься ли к брокеру?
— К какому брокеру? — изумился я.
— Ну, к этому, к перекупщику. К доктору Джэкобсу... Который человечину отовсюду думает скупать, чтобы драть за нее потом, как за собственную...
Что за черный юмор? По фамилии и кое-каким полученным от Рейны деталям начинаю поиск. То, что удается узнать, годилось бы в здешнюю популярную телевизионную передачу «Хотите верьте—хотите нет». Если бы все это не было абсолютно достоверным фактом.
Еще в июле 1983 года доктор Бэрри Джэкобс из города Рестон, штат Виргиния, основал компанию «Интернэшнл кидни иксчейндж лимитед», единственную в своем роде. Фирма задумала приобретать человеческие органы по всему миру, а потом перепродавать их больным американцам с наценкой. Предварительный прейскурант такой: за почку донору—10 тысяч долларов, с пациента — 15 тысяч. Чистый доход конторы Джэкобса от спекуляции чужой плотью — 5 тысяч. С сердца навар, естественно, пожирнее.
Звоню этому оптовому торговцу шансами на жизнь. Нет, щебечет секретарша, доктор бесплатных интервью не дает. Я ее хорошо понимаю: язык-то ведь изнашивается, а он денег стоит. Кто-то там считает, что в человеке все должно быть прекрасно. Чушь собачья! В человеке все должно быть таким, чтобы хорошо шло на здешнем медицинском рынке.
Спрос здесь огромный. Когда случилась эта история, в очереди за пересадкой почки стояло 10 тысяч американцев. Доноров нашли только для 3,5 тысячи. Кроме того, правительство как раз разрешило использовать новый препарат циклоспорин, резко снижающий вероятность отторжения пересаженных тканей. Вот почему услуги Бэрри Джэкобса по разборке человеческих существ на детали и перепродаже их в розницу — нарасхват. Он уже направил письма в 7500 американских больниц. Энтузиазм, говорят, большой.
Блистательная идея первоначально пришла доктору в голову, когда он смотрел в 1971 году по телевизору кадры массовой резни в Восточном Пакистане. Сколько добра пропало зря!
В одном из его газетных интервью я нашел любопытную фразу. Доктор чинно объясняет, что товар будет изыматься с полного согласия обладателя всего организма: «Поскольку многие потенциальные доноры не могут читать и писать, их согласие будет записываться на магнитофон».
Почему не могут? Потому что главный урожай человеческих запчастей Джэкобс думает снимать с населения развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки. «Люди будут распродавать себя по тем же мотивам, по которым они продают все остальное: жажда наживы, неоплаченные счета»,— рассуждает этот патологоанатом, вознамерившийся резать по-живому.
Неизвестно, чего здесь больше — каннибализма или колониализма. Не нужно ли обогатить американский толковый словарь новым понятием «колониабализм»?
А в Капитолии кое у кого, кажется, пошли мурашки по спине. «Рынок человеческих органов несовместим с нашей системой ценностей,— возмутился конгрессмен Альберт Гор.— Чужд нашему взгляду на человечество. По тем же причинам незаконна проституция и рабовладение...»
Проституция, кстати, вполне законна, скажем, в штате Невада. Что до спекуляции Homo sapiens в розницу, то это, похоже, плоть от плоти здешней морали.
Доктор Джэкобс даже не может претендовать на лавры первопроходца. Кто-то, помнится, уже обтягивал человеческой кожей абажуры и дамские сумки.
Пролетел еще месяц. Снова набираю знакомый номер 351 -3345. Восемь утра, а Боба Рейны уже нет дома.
— Ушел на промысел,— говорит соседка Дороти Мауро. Телефон в доме только у нее, так что она в курсе интереса, который проявил к мытарствам Боба русский журналист.— Знаете, есть такая присказка: червячок достается ранней пташке?
— Ну и как, достался?
— На днях кое-что перепало. Один хозяин пригласил Боба помочь перекрасить автомобиль. А с продажей этого самого — никак. Покупатели опасаются. Если, говорят, он, Боб Рейна, снаружи так обветшал, одна рубаха да джинсы, то какой же, говорят, никудышный товар должен быть у него внутри...
Соседка смолкает. Молчу и я. Что тут особенно скажешь, если среди апельсиновых рощ штата Флорида, по песчаным пляжам озер, обрамляющих городок Окала, бродит гражданин самой богатой страны Запада и умоляет купить у него почку? Где это видано, чтобы человек решил прокормиться, гак сказать, самим собой?
— Я бы рада ему чем-нибудь пособить,— у Дороти певучий голос, материнские, заботливые интонации.— Только я сама безработная. Мне, знаете, стукнуло 55. Наниматели отмахиваются от людей в таком возрасте, как от изношенного хлама. Но силы-то есть. Я бы хоть сейчас поваром, телефонисткой или там нянькой...
Как выяснилось, ни Боб, ни Дороти не служили в солидной фирме, все мыкались по мелким хозяйчикам, поэтому пособия по безработице им не положено. У Дороти еще есть дети, нет-нет да подкинут съестного к столу. А Боб забыт на этом белом свете всеми. За свою мышиную нору, где двоим не повернуться, он должен выкладывать 35 долларов в неделю (103 рубля 60 копеек в месяц по курсу тех дней.— В. С.).
Откуда у безработного такие деньги? Скоро, наверное, выгонят. И впроголодь ходить—не особенно находишься.
— Вчера отварила ему чуток вермишели. Но что мужчине вермишель—на один зуб...
Дороти опять молчит.
Внезапно на том конце провода что-то меняется. Дороти начинает говорить взволнованно, почти захлебываясь, словно боится, как бы я не повесил трубку.
— Вы знаете, он, Боб, еще вполне в соку, вы не думайте, он не пьет, не курит, атлетически сложен, вы не сомневайтесь, как господь его создал, таким он себя по сей день и сохранил, кому достанется его почка, тому достанется дар божий...
Я понимаю, в какую сторону вильнула у Дороти мысль. Никакой это не корреспондент русской газеты, а смекалистый покупатель. Прикинулся черт те кем, а сам все выспрашивает, прощупывает товар, пока тот еще не продан. И акцент иностранный. Значит, нефтяной шейх какой-нибудь. Ведь именно они заполонили сейчас американские больницы, трясут мошной, выкладывают за пересадку почки 50—60 тысяч долларов...
С трудом развеял я соседкины подозрения. Тем временем история с Бобом Рейной смутила и взбудоражила здешних интеллектуалов, научные круги, особенно мир медицины.
Непьющий, некурящий атлетически сложенный Рейна, который готов вывинтить из своего организма запчасть, предстал перед ними леденящим символом того, как система обессмысливает так называемые гуманные профессии, сам научный прогресс.
Д-р Бэрд Хелерич, профессор медицинской школы в Джорджтауне, предместье Вашингтона, беспомощно вопрошает в своей статье:
«В каком же моральном направлении движется наша медицина, если люди с деньгами могут приобретать счастье человеческого существования в розницу?»
Никуда она особенно не движется, профессор! Дело спасения жизни, исцеления страждущего давно подчинено здесь законам сверхприбыли в не меньшей степени, чем производство орудий смерти.
Вот в переводе на рубли типичный счет за пребывание в типичном американском госпитале, опубликованный журналом «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт»:
больничная палата — 140 рублей в день,
за услуги хирурга — 2590 рублей,
анестезия — 444 рубля,
уход медсестры в послеоперационный период—362 рубля в день,
аренда операционной — 2064 рубля,
рентген — 532 рубля,
за лабораторные анализы — 1043 рубля, использование медицинского оборудования и препаратов — 2042 рубля,
лекарства — 880 рублей.
Никакая страховка, за которую американцы платят десятилетиями, не покроет полностью таких расходов.
Но дело даже не в том разбойничьем посвисте коммерции, каким сопровождается здесь клятва Гиппократа. Случай с Бобом Рейной — это явление философского порядка. Это показатель обесценивания человеческой жизни в Америке— процесса, заметно ускорившегося под властью Рейгана. Набожная администрация, которая расстреливает божий дар жизни в Ливане, Гренаде и Ливии, довела собственных людей до того, что они начинают пускать свою плоть с молотка.
Кто больше за почку? Кто больше за Homo sapiens по кусочкам? Раз! Два!.. Продано!
Быть ли сердцу запчастью?
Аппарат был размером с небольшой холодильник. Мне почудилось в нем что-то живое — круглые циферблаты и ручки настройки складывались в забавную рожицу, словно нарисованную ребенком на асфальте.
— Он на колесах.— Высоченная, под два метра фигура приникла к аппарату, напряглась.— Смотрите, вот так можно двигать...
Двигать конструкцию можно было лишь с заметным усилием. Полтораста килограммов — не пушинка.
Два прозрачных шланга тянулись от нее к предмету на сверкающем блюде из нержавеющей стали. Уж не знаю почему, но я ожидал увидеть нечто фантастически сложное, почти мистическое. Этакий хрустальный шар, который открывает кудесникам будущее. А тут цвета топленого молока пластмасса, гофрированные трубки... И все равно от конструкции нельзя было оторвать глаз.
Мой спутник достал из кармана ключ. Хотел было запустить им установку, но, видно, передумал. «Давайте-ка от баллона со сжатым воздухом—так лучше слышно, как оно работает». И повернул вентиль.
Предмет на блюде дрогнул. Потом забился, затрепетал в привычном ритме человеческого пульса. Монотонное, металлическое щелканье наполнило комнату.
— Возьмите в руки...
Нет, взять было как-то страшновато. Я просто накрыл предмет ладонью, как домашнего зверька. Кусок холодной пластмассы отсчитывал ровно семьдесят пять ударов в минуту. У меня под рукой стучало уверенно и чуть равнодушно-как оно уже стучит в человеческой груди — сотворенное из пластика, графита, титана и дакрона чудо, именуемое искусственным сердцем.
Мелькнула мысль: а не прикасаюсь ли я в этот миг к самому будущему?
— Два таких сердца уже украли,— вернул меня на землю знакомый голос.— Кому-то понадобился сувенир, пресс-папье... Ничего себе пресс-папье ценой 15 тысяч долларов!
Спутник рассмеялся — сдержанно, коротко. Он весь был в этой фразе — человек, изъясняющийся без обиняков, без напыщенности, рационально и прозаически точно. В госпитале корпорации «Хьюмэна» — это в городе Луисвилл, штат Кентукки — мне подарил полтора часа своего времени Уильям Де Врис, тот самый знаменитый американский хирург, чья первая в истории операция по пересадке постоянного искусственного сердца стала в 1982 году международной сенсацией.
С тех пор имя Де Вриса не покидало первых страниц здешних газет. Оно и понятно: он — единственный американец, которому разрешено сделать 7 таких операций. И хирург продолжает свои поражающие воображение, утверждающие безграничность возможностей человеческого разума исследования на стыке медицины и фантастики.
Правда, с разным успехом. Первый человек с механическим сердцем — Барни Кларк прожил 112 дней. Когда жизнь покинула его, пневматический насос в груди все еще отщелкивал безукоризненно точный ритм. Подвело, считает хирург, не сердце. Подвели слабые легкие Кларка, их инфекция.
До этой операции многие видные западные кардиологи вообще не верили, что искусственное сердце сочетается с прилагательным «постоянное». Что оно сможет поддержать жизнь человека сколько-нибудь продолжительное время.
Смогло. Технология не оплошала. Но правильно ли говорить о жизни или лишь о существовании? Здесь есть о чем поспорить.
К дню моей встречи с Уильямом Де Врисом он сделал еще две подобные операции. Оба пациента были тогда живы—Уильям Шредер, 52-летний военнослужащий в отставке, в прошлом контролер оружия в одном из арсеналов Пентагона, и Маррей Хейдон, 58 лет, рабочий автозавода.
Две драмы с примерно схожим сюжетом. Вместе с больными их пережила вся Америка. Сначала—ликование! Ощущение невероятного свершения вроде полета человека на Марс. Смотрите-ка, сразу после операции Шредер захотел пива! В газетах, на телеэкране темно от снимков: «бионический Билл» пьет прямо из банки — пару ящиков срочно подарила фирма «Корс». Смотрите-ка, на такой-то день подключил свое железное сердце к портативному компрессору и прошел пешком три квартала! Гулял с источником своей жизни, как с собачкой!
Слова Маргарет, жены Шредера: «За последние месяцы муж никогда не чувствовал себя лучше. До операции погибал, покидал меня, а теперь знаю: он вернулся назад...»
Маррей Хейдон, тот тоже потряс страну. Как только пришел в себя, со смешинкой в глазах попросил медсестру: «Включите, пожалуйста, телевизор. Хочу узнать из последних известий, жив я или нет...» Юмор обитает не в сердце.
Но восторги длились недолго. На 12-й день Шредеру позвонил президент Рейган, тепло поздравил, справился, не надо ли чего. Есть затруднения с медицинской страховкой, пожаловался тот, ваши государственные чиновники затеяли волокиту. «Сейчас же этим займусь»,— пообещал Рейган.
Назавтра два гонца доставили в госпиталь чек, но было уже поздно. Шредер не смог поблагодарить президента, даже забыл, как того зовут. Больного разбил тяжелейший инсульт. Потеря памяти, контроля над правой стороной тела, серьезные нарушения речи...
После этого новость, что Ш редера выписывают из госпиталя и переводят «домой», а точнее, в специально оборудованный особнячок, уже не вызвала у американцев особого умиления. Живет не человек, соглашались газеты, живет растение.
Не повезло и Маррею Хейдону. Искусственное сердце ему установили 17 февраля 1985 года, а 8 марта пришлось подключить еще аппарат «искусственные легкие». Диагноз: «Осложнение в результате запоздалой реакции на переливание крови...»
Тогда-то мы и встретились с Уильямом Де Врисом в просторном, застекленном от потолка до пола кабинете в недрах луисвиллского медицинского центра.
Сосредоточенный человек, который обращается со словом осторожно и уверенно, как со скальпелем, еще не знал тогда многого. Он не знал, что его четвертый пациент с механическим сердцем — 62-летний Джек Берчем проживет всего десять дней. Что у Шредера произойдет второе кровоизлияние в мозг с роковым исходом. Что Хейдон умрет в июне 1986-го. Что в Швеции тоже произведут присадку человеку американского аппарата «Джарвик-7» и с тем же результатом — инсульт, потом смерть.
Но я убежден, знай все это Де Врис, он вряд ли говорил бы со мной по-другому.
Вера хирурга в торжество технологии над болезнями и самой смертью, в будущее искусственного сердца непоколебима.
Его первая операция в декабре 1982 года вызвала живой интерес в Советском Союзе, рассказываю я Де Врису. «Литературная газета» пригласила тогда в редакцию ведущих советских кардиологов, специалистов трансплантации, писателей и устроила то, что здесь, в Америке, называют «мозговым штурмом». Участников встречи, помнится, одолевали вот какие сомнения: принес ли монтаж механического сердца благо больному или только научные откровения?
Что это было—эксперимент или лечебная процедура?
— Отличный вопрос,— кивает Де Врис.— Вопрос этот стоит в центре всей нашей работы. Мы считаем так: операция — и то и другое. Считаем ее новаторской, необычной формой терапии, поскольку она приносит пользу пациентам. Они продолжали жить — один 112 дней, другие — не знаю еще сколько. Что это, как не терапия?
Однако хирург без всяких колебаний называет операцию и экспериментом на человеке. Больные взяли свое, чтобы одарить научной информацией человечество. Вот пример. Когда на Шредере и Хейдоне испытали препараты, обычно применяемые при инфарктах, то увидели: реакция больных совершенно иная. Раньше действие лекарств на сердечнососудистую систему как бы маскировалось живым сердцем. В действительности же оно оказалось новым, неизвестным, не понятым пока до конца. Опыт поможет изменить методы лечения инфаркта.
Операцию нельзя разрубить на две половинки: вот эксперимент, а вот терапия, убежден мой собеседник. Если видеть в этом только чистую терапию, то позиция должна быть такая: вставить больному механическое сердце и поскорее выписать из больницы, вернуть, так сказать, в жизнь.
Однако ему, Де Врису, нужно провести опыты с различными препаратами, с разной частотой пульса, с разными физическими нагрузками. Такие эксперименты могут нанести вред больному, но тот сознательно идет на риск. Если опасность существует, хирург обязательно должен быть уверен: больной сознает степень риска и может, если хочет, сказать: «Нет, не делайте этого!»
— Где здесь терапия, где эксперимент на человеке? — разводит руками Де Врис.— Нам трудно разобраться...
«Получил жизнь — одарил информацией», «опыты могут нанести вред больному»... Де Врис, как мне кажется, предельно откровенен. Не знаю как специалистов-медиков, но здешнего обывателя такая прямота несколько ошарашивает. У меня же мелькнула мысль: лишившись собственного сердца, может ли больной увидеть в чем-то еще большую степень риска? Способен ли осознанно возразить: «Нет, не делайте этого»? Особенно в состоянии Шредера и Хейдона?
— Как общество контролирует такие операции?—спрашиваю я.— И еще: чем было обусловлено, что вы сделали первую операцию 1 декабря 1982 года. Почему не раньше? Почему не позже?
Де Врис вспоминает временные подсадки искусственного сердца, совершенные впервые в США техасским хирургом Дентоном Кули. Многие медицинские авторитеты, в частности д-р Майкл Де Бейки, отнеслись тогда к ним резко отрицательно. Поднялся шум и в американской печати: «Аппарат примитивен! Операции недопустимы!» Государственное финансирование научной программы, связанной с разработкой искусственного сердца, сильно урезали. Программа затопталась на месте.
— Почему декабрь 1982 года?—переходит к моему вопросу хирург.— Потому что как раз тогда мы пришли к выводу: сделано достаточно экспериментов на животных. Механическое сердце может поддерживать жизнь теленка в среднем примерно год. А что дальше? Продолжительность жизни животных не увеличивалась. И мы не узнавали ничего нового. В то же время у нас были больные, готовые дать согласие на операцию. Тогда мы вступили в затяжные переговоры с правительственной организацией — «Управлением по продовольствию и медикаментам» (ФДА). Полтора года обсуждали: этична ли операция, достаточно ли у нас знаний, сможем ли проинформировать больного о последствиях. Наконец ФДА дало мне разрешение...
Хирургу понадобилось еще девять месяцев, чтобы подыскать подходящего пациента. Операция пришлась на конец 1982 года, потому что «тогда сошлись воедино все элементы». Среди них хирург выделяет мужество Барни Кларка: «Какая исключительная воля!..»
Интересуюсь у собеседника: помнит ли он фразу в одном из своих интервью: «Я не уверен, по плечу ли нашему обществу искусственное сердце». Что имелось в виду?
— Мне кажется, технология развивается более стремительно, чем наше умение ееиспользовать!—восклицает Де Врис.
Хирург раскачивается в кресле на фоне окна, за которым порхают воробьи Рукава пиджака коротковаты, и от этого крупные руки кажутся поистине невероятных размеров. В такт речи они тоже летают какими-то фантастическими, темными птицами.
— Да, более стремительно! Предположим, мы создадим искусственное сердце и оно сможет поддерживать жизнь человека после того, как у него случился смертельный, говоря по старинке, инфаркт. Операция на Кларке стоила 250 тысяч долларов, на Шредере — уже меньше. Механическое сердце становится дешевле. Скоро эта лечебная процедура будет обходиться примерно в 150 тысяч. А сколько больных погибает от инфаркта? Только в Соединенных Штатах — 50 тысяч в год. Раньше они бы умерли. Теперь они, предположим, живы, и каждый стоит правительству 150 тысяч. Встает вопрос: может ли администрация изменить свою точку зрения на медицину таким образом, чтобы выкладывать на операции 7,5 миллиарда в год? И поддерживать жизнь этих, в общем, немногих людей?
Де Врис рассуждает негромко, чуть монотонно, и лишь по убыстряющемуся темпу речи, по более коротким фразам можно понять—тема волнует его.
— Да, 7,5 миллиарда. А ведь мы могли бы потратить эти деньги на то, чтобы, скажем, отучить людей от курения. Заставить их сбросить лишний вес. Или на предотвращение алкоголизма. Возникает также другой вопрос: кто наделен правом принимать решения, что лучше для народа? В этом смысле наше общество приспособлено плохо. Или вот еще проблема. Скажем, создадут комиссию, которая будет отбирать больных. Но как? Вот передо мной четыре пациента, а операцию я могу сделать только одному. Кому? Должен ли я оперировать самого богатого? Или самого больного? Или того, кто может принести наибольшую пользу обществу? Не хотел бы попасть в положение, когда мне пришлось бы делать такой выбор. То есть возникают проблемы социального и человеческого порядка. Кто мы, дети малые или умудренные люди, повелевающие технологией? Достаточно ли мы разумны, чтобы справиться с той загадочной мощью, какую выпускаем из бутылки? Вот вопрос, который меня тревожит. И я не знаю на него ответа. Не знаю. Надеюсь лишь, что наше социальное мышление сравняется по скорости, по стремительности с технологией. Понимаете, о чем я говорю?
В этот момент меня самого одолевали сомнения: стоит ли касаться темы, которая может быть неприятна собеседнику? У журналистов, как у хирургов, тоже есть своя этика. Не обидится ли? Не подведу ли людей, любезно хлопотавших за первое интервью всемирной знаменитости советскому журналисту?
Но замечание Де Вриса насчет того, что «общество приспособлено плохо» для решений в интересах народа, убедило меня: да, надо задать этот щепетильный вопрос. Тут дело не в репортерской охоте на остренькое. Тут маячит, так сказать, биографический символ той самой социальной проблемы, которую мы обсуждаем. И Де Врис должен это понять.
— Не поставили ли вы себя сами в трудное положение?— без обиняков спросил я.— В положение, когда выбор диктуют не нравственность и не соображения социальной полезности. Я имею в виду ваш переход в организацию, где делают миллиарды на лечении людей?
— А что здесь плохого?—В голосе хирурга прорезалась жесткая нотка.
— То, что ее девиз: выжать наибольшую прибыль из человеческих недугов. К этому же, похоже, хотят приспособить и ваши опыты с искусственным сердцем...
В кабинете стало слышно, как за окном чирикают воробьи.
Наука в частном сейфе
Я увидел эту башню еще из окна гостиницы. Ее нельзя не заметить. Розовый итальянский мрамор, бронзовые двери, крытые чистым золотом завитушки и 25-метровый водопад, сбегающий по стенам. Новая штаб-квартира корпорации «Хьюмэна» в Луисвилле чванливо разглядывает собственное отражение в реке Огайо. Этакий памятник лоснящейся роскоши.
— Они владеют всем нашим городом! — боязливо оглядываясь, шепнул мне знакомый луисвиллский журналист. — Ей-ей, не преувеличиваю. Это их собственный город...
Кроме того, частная медицинская корпорация «Хьюмэна» владеет 87 платными госпиталями в 21 штате США и в трех зарубежных странах. Каждый год этот гигантский паук высасывает из человеческих страданий и недомоганий около 3 миллиардов долларов. Ай да бескорыстный гуманизм, на который намекает название!
«Хьюмэна» — порождение «рейганомики». Никогда раньше частная медицина не отхватывала себе такой кус с блюда общественного здравоохранения.
На блюде вроде немало. Через системы государственного страхования «Медикейд» и «Медикэр» Соединенные Штаты тратят сейчас на медицинское обслуживание населения что-то около 10 процентов национального дохода.
Еще 20 лет назад в особой резолюции конгресс обещал: «Каждому американцу—самое крепкое здоровье, какое только достижимо». Внушительно?
«Но куда идут такие деньги?—с досадой спрашивает сегодня Джеймс Спиер, профессор истории биомедицины из Вашингтонского университета.— Наше здоровье не улучшается. Наша жизнь не продлевается. Эти затраты — не на здоровье американцев, а на создание гигантской индустрии».
«Хьюмэна» и ее собратья по новому бизнесу—вот кто проглатывает надежды американца болеть меньше и жить дольше. Компьютеры и прочие чудеса техники, которыми нашпигованы госпитали «Хьюмэны», не столько врачуют, сколько вздувают цены в прейскуранте. Американская медицина еще стремительнее, чем раньше, превращается в закрытый клуб для счастливчиков.
Конечно, иной счет в банке может купить пересадку сердца и почек или пластическую операцию на грани фантастики, рассчитанную на ЭВМ и выполненную лазерным скальпелем. «Хьюмэна» это может. Но что остается тем американцам, кто не значится в списке богатейших династий Америки?
«Я не понимаю восхищения этой кастовой экспериментальной медициной, когда в США каждый день рождаются дети с недоразвитым из-за плохого питания мозгом! — возмущается Герман Смит, профессор университета Дюка. И заключает: — Это серьезное обвинение нашему обществу».
Смиту вторит Бартон Бернстайн, историк из Станфорда: «Изменение условий жизни за порогом бедности улучшило бы здоровье намного заметнее, чем все медицинские изобретения, какие только появятся у нас в будущем десятилетии».
Например, надежное искусственное сердце. Особенно если учесть, что программа исследований в этой области сегодня перекуплена у университета Юты на корню. Кем? Той же самой «Хьюмэной». Каким образом?
Корпорация переманила к себе «звезду» американской хирургии Уильяма Де Вриса.
Сведущие люди в Луисвилле рассказали мне, как это было обставлено. Президент «Хьюмэны» Венделл Черри послал за Де Врисом в Солт-Лейк-Сити свой личный самолет, устроил у себя на загородной вилле ужин, а потом, уже раскуривая сигару в саду, как бы мимоходом бросил:
— Так сколько операций вам хотелось бы сделать, чтобы, как говорится, увидеть свет в конце тоннеля?
— Разрешение на семь. Наскрести бы деньги на эти семь...
Черри, конечно, знал, что после операции на Барни Кларке ФДА отказалось финансировать опыты Де Вриса за счет налогоплательщиков.
— Семь?—усмехнулся он.— Сто! «Хьюмэна» берется финансировать сто операций! Переходите к нам. По рукам?
Через день-два газеты запестрели заголовками типа «Капитан хирургии покидает корабль!». Новость ошеломила научный мир страны, вызвала там взрыв возмущения, смешанного с какой-то покорной безнадежностью. Общее мнение — случившееся неотвратимо. Чуждые науке, но купающиеся в деньгах концерны запирают в свой сейф и новинку, и ее творцов, чтобы монополизировать будущие прибыли.
«Хьюмэна» не ведет исследований, не занимается обучением, они там не сделали ни одной клинической работы,— сокрушался д-р Арнольд Релмен, редактор авторитетного научного издания «Нью Инглэнд джорнэл оф медисин».— «Хьюмэна» вообще не внесла никакого вклада в науку! И теперь они выступают пионерами искусственного сердца? Нет, это не место... Перед нами просто коммерческая организация, которая приступает к рекламе нового товара».
События очень скоро подтвердили эти опасения. «Хьюмэна» раскрутила вокруг операции на Шредере такую саморекламу, что многие ученые только ахнули: «Цирк, да и только!» Ежедневные пресс-конференции. Специально нанятый пресс-фотограф. Даровые ланчи для журналистов... Говорят, даже расписание лечебных процедур Шредера было составлено таким образом, чтобы известие о них успевало попасть в вечерние выпуски новостей.
Заботились не о больном — о престиже «Хьюмэны». Концерн хотел перепрыгнуть конкурентов, застолбить золотую жилу. С этим надо было спешить. На Уолл-стрит, как образно писал еженедельник «Ньюсуик», «уже услышали удары бионического пульса». Банки срочно ссужали кредиты фирмам и фирмочкам, штамповавшим вчера пластмассовых пупсиков, а теперь запустившим на конвейер сердца собственной конструкции. На каталогах магазинов, торгующих по почте, уже красовался рисунок элегантного парня с теннисной ракеткой. Из заплечного мешка под майку молодца тянулись шланги. «Сердце для вас всех размеров: малое, крупное и сверхкрупное».
...Воробьи за окном никак не могли угомониться. Собеседник молчал. Собственно, распространяться тут особенно было не о чем. Де Врис, я убежден, отдает себе полный отчет, в какой коммерческой узде держат здесь талант, самое науку. Наконец хирург промолвил несколько грустных фраз в том смысле, что ему 41 год, проблемой искусственного сердца занимается с 1967 года, есть опыт, разрешение ФДА, кругом умирают пациенты, а у университета Юты не было одной чепуховины — денег...
Я не стал спорить. Оба мы знали, что «Хьюмэна» не пускает неотложки с умирающими бедняками дальше ворот. А Шредер и Хейдон? С точки зрения «Хьюмэны», особой разницы нет: идет ли игра на фондовой бирже или на операционном столе.
Чтобы преодолеть нависшую над разговором неловкость, возвращаю его в прежнее русло. Интересуюсь, как Де Врис расценил пересадку сердца крошке Фей?
Американская пресса тогда только что отбарабанила эту сенсацию. А история действительно любопытная.
Сразу после рождения девочки врачам медицинского центра Лома-линда под Лос-Анджелесом стало ясно: с таким недоразвитым сердцем ее ждет самое плохое. И в ближайшие дни.
Родители вывезли дитя в мотель. Пусть смерть придет не в семейное гнездо, а в казенный дом. Но настал час, и ужас надвигающейся трагедии сломил безропотную покорность. Мать с отцом примчали ребенка опять в госпиталь: мудрые врачи, ученые хирурги, сделайте что-нибудь, что угодно, за любые деньги, только сделайте!..
Операция прошла хорошо. Зато вокруг началось столпотворение. Кого-нибудь из репортеров, церковников, да и просто чересчур набожных граждан того и гляди мог хватить инфаркт. Возле медицинского центра бушевали демонстрации и контрдемонстрации. Его телефоны заклинило от тысяч звонков. Администрация наняла охрану с собаками. Как еще сдержать эту людскую лавину, где возмущенных больше, чем восхищенных?
А крик главным образом стоял такой:
— Люди добрые, что же это! Что за кощунство сотворили наши так называемые медики?! Схватили человеческое дитя и пришили ему ... язык не поворачивается сказать что. Обезьянье сердце — вот что! Срастили плоть разумную, что от бога, со зверьем...
Что было, то было. В ходе поразительной операции 26 октября 1984 года хирург Леонард Бейли произвел пересадку двухнедельному ребенку сердца, взятого у молодого бабуина. Оно сделало в человеческом организме более 2 миллионов ударов! Как ни ряди, крошка Фей—так назвали девочку, чтобы сохранить ее инкогнито,— вошла в историю мировой медицины. После подобных операций никто не жил так долго.
А сама операция — не новинка. Еще двадцать лет назад в медицинской школе Миссисипского университета сделали попытку пересадить сердце шимпанзе 68-летнему американцу. Он прожил полтора часа. В 1977 году знаменитый Кристиан Барнард подсоединил сердце бабуина к больному сердцу 25-летней итальянки. Та умерла через пять часов. Позднее тот же Барнард произвел схожую операцию 59-летнему мужчине, использовав сердце шимпанзе. Конец наступил через три с половиной дня.
Невеселый перечень. Но в те дни крошка Фей улыбалась в своей прозрачной кислородной палатке и хватала ручонками все, что попадалось на глаза. А попутно опрокидывала траурные прогнозы мировой науки насчет непригодности приматов в качестве доноров.
Это приводило в бешенство здешних ультраконсервативных клерикалов. В известном фильме режиссера Романа Полански «Бэби Розмари» героиня рожает от дьявола. Примерно то же, кричали религиозные фанатики, стряслось и в данном случае. Крошка Фей — исчадие ада! Как ей не быть, если каждым днем своей жизни она косвенно подтверждает выдумку нечестивца Дарвина. Чтобы доказать, будто человек произошел от обезьяны, его ножом перекраивают в эту самую обезьяну. Еще неделька, и ваша крошка обзаведется хвостом!
На авторов операции накинулись также разного рода клубы и общества защиты домашних животных. Не так уж мало американцев, оказывается, убеждены: нет ничего аморальнее, как наваливать людские страдания «на плечи звериного царства». Сторонники такой точки зрения день и ночь маячили перед окнами медицинского центра с издевательскими плакатами: «Что дальше — пересадка головы?».
Надо сказать, что виднейшие американские хирурги тоже встретили сенсационную операцию без энтузиазма. Пожалуй, событие примечательное, признали они. Но историческое ли? Дело в том, что в мире медицины хирург Леонард Бейли—«темная лошадка». Известно, что он никогда не производил пересадок сердца на людях. О результатах его экспериментов на животных научные журналы тоже молчат. Правда, говорят, он писал какие-то статьи, но их неизбежно отвергали. То ли зависть к гению, то ли статьи никудышные..
Тут неспециалисту вершить суд трудно. К тому же вокруг истории с крошкой Фей роились другие странные загадки. Скажем, какая острая необходимость заставила Бейли взять донором обезьяну? В те часы была возможность использовать и обычное детское сердце. Почему родители так азартно продавали издательствам жизнеописание своего ребенка? Не подождать ли и посмотреть, чем дело кончится...
А кончилось оно трагично: крошка Фей погибла. На 20-й день после операции отказали почки, а потом и чужой орган. Крохотный человечек с обезьяньим сердцем размером с грецкий орех ушел из жизни под объективами телевизионных камер.
Так кто же она, крошка Фей, — жертва маниакальной тяги к сенсациям? Или все-таки дитя прогресса?
Что думает о всей этой истории Де Врис?
— Я восхищен! — восклицает мой собеседник.— Если можно будет использовать, скажем, сердца бабуинов, откроется огромный резерв материала для трансплантации. Конечно, нужно подождать, посмотреть, как пойдут эксперименты. Но область увлекательнейшая!
— А если удастся решить проблему пересадки обезьяньего сердца? Будете продолжать опыты с механическим?
— Вполне вероятно. Наука должна ответить на вопрос, что более эффективно и почему — живое сердце или искусственное. У техники свои преимущества. Пациентов не нужно подвергать воздействию лекарств, подавляющих реакцию отторжения. Механическое сердце можно изготовлять в массовых количествах. Оно может стать, так сказать, еще одной запчастью на полке. Автомобильная авария, какое-нибудь несчастье — и мы берем с полки то, что нужно.
Сколько, по мнению Де Вриса, понадобится времени, чтобы «отвязать» человека с искусственным сердцем от громоздкой вспомогательной аппаратуры?
— Воздушные компрессоры, электробатареи — все это совершенствуется довольно быстро. Подвижность Барни Кларка не превышала возможностей человека в инвалидном кресле. Вес аппаратуры, которая приводит в действие сердце Шредера, уже 323 фунта (146 кг). Почти каждый день он и Хейдон подключаются к портативной системе размером с фотосумку и весом 11 фунтов (5 кг). Подвижность пациента настолько возрастает, что он может сходить в кино, посмотреть фильм. Зритель рядом и знать не будет, что у вас механическое сердце,— его не слышно. Правда, это радость на четыре— шесть часов. Потом батареи надо подзаряжать. Но это не составляет труда. Практически вы можете существовать с искусственным сердцем довольно комфортабельно...
Де Врис признается, что он вообще скуп на интервью, но решил встретиться с советским журналистом вот почему— ему приходится во многом опираться на результаты советских исследований. Его восхищают, например, работы профессора Сергея Брюхоненко, одного из изобретателей машины «сердце—легкие».
— Он, на мой взгляд, гений! И занимался искусственным сердцем! К сожалению, в западной научной литературе трудно найти о нем подробные материалы, хотя я и прилагал большие старания. Брюхоненко — подлинный пионер трансплантации. Его работы чрезвычайно важны. Думаю, их на Западе недооценивают. Знаю также, что в Москве и Ленинграде ведутся чрезвычайно оригинальные, новаторские разработки искусственного сердца. Поистине фантастические исследования...
Подошла пора для вызывающего здесь много споров вопроса — как оценивать качество жизни Кларка, Шредера и Хейдона? По газетной вырезке, которую захватил с собой, цитирую Кристиана Барнарда, южноафриканского хирурга, пионера операций по пересадке «живого» сердца. Тот сказал: «Я люблю жизнь, но ни за что не соглашусь на искусственное сердце. Пересадка «живого»—да. Но мне не льстит идея быть привязанным к машине до конца дней своих».
Что бы Де Врис ответил коллеге?
Хирург улыбается.
— А я бы ему, д-ру Барнарду, и не стал бы вставлять искусственное. Барнард забывает: все мои пациенты были так больны, что не могли без труда дышать. Повторяю: мы не вставляем искусственные сердца в здоровых людей. В тех, кто бегает рысцой марафоны и занимается аэробикой. Им такие сердца не нужны.
Мой собеседник перечисляет критерии ФДА, на основе которых отбираются кандидаты на операцию. Мозг, почки, печень, все органы должны быть в хорошем состоянии, а сердце — почти «мертво». Таких сердечных больных в США относят к «классу 4». Пациент должен быть старше 50 лет. До этого возраста, по нормам ФДА, он пригоден для пересадки «живого» сердца, «а это пока, конечно, лучше». Еще одно условие—участие семьи, которая бы поддержала больного в трудную пору.
— Качество жизни оперированных улучшается,— настаивает хирург.— Это их собственное мнение...
При всем уважении к Де Врису я не могу не заметить в скобках, что он кое-что недоговаривает. Углы проблемы у него несколько сглажены. Сегодня известно, например, что 112 дней Барни Кларка были омрачены порой глубочайшей депрессией. Он признавался психиатрам, что мечтает умереть. Говорил, что его «мозг мертв». Что для него мучение просыпаться каждое утро и обнаруживать: чужой равнодушный металл все еще щелкает в груди. «Почему вы не даете мне умереть?»—молил он.
А эти «неврологические осложнения», как здесь округло называют инсульты. Они не пощадили ни одного из обладателей механического сердца. Что Де Врис думает по этому поводу?
— Не знаю точно, в чем причина кровоизлияний,— размышляет хирург.— Хотя, возможно, все действительно связано с искусственным сердцем. У Шредера был множественный инсульт от одного оторвавшегося тромба. Он, этот тромб, вполне мог образоваться в механическом сердце. Как только инородное тело приходит в соприкосновение с кровью, повреждаются красные кровяные тельца, белые и так далее. Сейчас мы работаем над дозировкой и характером препаратов, сдерживающих свертывание крови...
Де Врис дает понять: он верит в искусственное сердце, как в идею. А «Джарвик-7»—лишь ступенька в будущее.
— Если у всех больных будут наблюдаться инсульты, может настать день, когда мы скажем себе: «Нет, у нас ничего не выходит. Эта технология никуда не годится! Дело не идет. Стоп!»
Канцелярская скрепка ломается в его длинных, гибких пальцах. Обломки скачут по поверхности стола. И мне кажется, что вот так же просто может лопнуть, рассыпаться в человеческой груди изобретение д-ра Джарвика...
Де Вриса атакуют не только медики, но и философы.
Так, Кеннет Во, профессор медицинской этики в университете штата Иллинойс, не скрывает раздражения: «Какого человека мы пытаемся сотворить? Набор запчастей, который будут непрерывно заменять после каждой поломки?» И советует: «Мы должны умерить наши амбиции, научиться смиряться с неизбежностью болезни, неизбежностью самой смерти».
Иначе говоря, не посягает ли искусственное сердце на некие извечные философские законы бытия?
— Мне кажется,— отвечает Де Врис,— что технологическая революция началась тогда, когда мы одели себя в шкуры, смастерили башмаки, изобрели колесо, лук и стрелы, оружие, еще оружие, автомобиль, самолет, хирургию, сердечную хирургию. Мы все время создавали лучший вариант самих себя. И в этом естественная тенденция развития цивилизации. Человек делает себя сильнее. Быстрее. Лучше. Таким образом, мне представляется совершенно естественным, когда мы используем наши знания, чтобы продлить себе жизнь. Изменяет ли это человека? Делает ли его таким, каким он не должен быть? Могу только сказать, что мы заменяем сердце одного человека сердцем другого, или обезьяньим, или прибором. И в каждом случае пациент, на мой взгляд, остается самим собой. Он по-прежнему любит свою жену, детей. У него прежние философские взгляды, религиозные убеждения. Никаких изменений. Обитель человеческой души — не сердце, не легкие. Все это можно заменить: руки, ноги, хрусталик глаза, ухо... Все это уже существует в электронно-механическом варианте, а сам человек не меняется.
— Мы, правда, еще не заменяли мозг,— без тени улыбки, так же сосредоточенно и ровно говорит Де Врис.— Когда доберемся до мозга, может быть, станет ясно, где обитает наша душа...
Вера хирурга в философскую правомерность, в конечную доброту технического прогресса созвучна с главной мыслью доклада, опубликованного 14 ведущими учеными США. Эту комиссию создал Национальный институт сердца, легких и крови. Задача: заглянуть в завтра искусственного сердца, определить, может ли оно стать хорошим оружием в борьбе с болезнями сердца живого. Хорошим со всех точек зрения — медицинской, экономической, этической.
Ответ ученых категоричен: да, безусловно. Правда, аппарат «Джарвик-7» назван в докладе лишь «шагом к полностью вживляемым автономным системам». Только за такими системами будущее, считают ученые. Разработка искусственного сердца, не связанного с внешним источником питания ни проводами, ни шлангами, может занять 13 лет и обойтись в 73 миллиона долларов.
Много это или мало? Цифра для сравнения — одна ракетно-ядерная подводная лодка «Трайдент» стоит 1,6 миллиарда.
Дело, впрочем, даже не в цифрах. Многие американские медики считают, что нет смысла лечить человеческие сердца, если термоядерный взрыв может покончить со всем человечеством. Тревожит ли политическая непогода Де Вриса?
Да, тревожит, соглашается хирург. Недавно обследовали школы Соединенных Штатов, опубликовали доклад, рассказывает он. Семи-восьмилетних ребят спрашивали: «Чего ты боишься больше всего на свете?» Больше всего они боятся, оказывается, ядерной войны. Де Вриса поразило: дети думают о войне! На вопрос же, что их больше всего восхитило в минувшие годы, отвечали: «Искусственное сердце».
— Я делаю все, чтобы быть хорошим врачом,— говорит хирург.— И, надо сознаться, не совсем мне это удается. Не хватает времени. Как быть хорошим доктором, отцом семерых детей и добрым мужем сразу? Вот когда со всем этим справлюсь, может быть, займусь политикой. Пока наша политика называется научным обменом. Меня, знаете, вдохновляли приезды советских врачей, ученых. Очень огорчился, когда научный обмен пошел на убыль. Политика вмешалась в наши дела. Мы, американцы, тоже от этого пострадали...
В комнате раздается высокий ритмичный писк. Это на поясе Де Вриса срабатывает радиосигнализатор. Где-то в недрах громадного госпиталя зачастили зигзаги на экранах мониторов. Чье-то сердце подало отчаянный «SOS». Надо спешить.
Уже в лифте успеваю задать последний, может быть, опять слишком личный вопрос. Что ощущает, что переживает Де Врис, когда ему приходится удалять живое человеческое сердце и монтировать механическое?
— Совсем, наверное, не то, что вы думаете. Чувствую колоссальную ответственность — надо довести работу до конца во имя всех нас. В операционной — человек двадцать, и я знаю, что нас ждут тысячи часов дневных бдений и ночей без сна. Отрезая сердце, я каждый раз думаю: «Смотри-ка, это живое сердце! Как поразительно!» Но тут же приходит мысль: а что дальше? Операция — это не восхождение на вершину, когда ты говоришь себе: «Я покорил ее». Нет, это восхождение, когда с пика ты видишь другую вершину, а с той—другой пик. Оглядываться приятно, но это лишь приятное мгновение. Надо смотреть вперед. Вершинам нет конца...
Сигнализатор снова заходится в комарином писке. Лифт останавливается. Не прощаясь и не подавая руки, Де Врис исчезает в матовом сиянии коридора.
Он уже весь там — на крутой тропе к вершине.

6 Час в тюрьме у Леонарда Пелтиера
Когда индейцы борются за свои права, о правах человека уже не говорят. Тогда это именуют мятежами, беспорядками— всем, чем угодно...
Марлон Брандо, выдающийся американский киноактер
ФБР против узника №89637—132
После штормовой ночи утро 26 июня 1975 года удивило затишьем. В домике на северо-западной окраине резервации Пайн-Ридж, что в штате Южная Дакота, все шло своим чередом. Молодая индианка по имени Эйнджи Долговязый Г ость мыла посуду. Ее муж Айвис распахнул дверь и выпустил навстречу солнцу трех ребятишек.
В этот миг во дворе что-то ухнуло.
«Как будто праздничная хлопушка!» — вспоминает Эйнджи. Она выскочила из дома — все-таки дети совсем малые.
Первое, что увидела: две незнакомые автомашины с радиоантеннами. Значит, полиция или ФБР!
Багажник одной открыт. Бледнолицый достает оттуда скорострельный карабин. Водитель второй припал на колено, стреляет в сторону дома.
Прямо по детям! Пистолет держит заправски, как профессионал—двумя руками.
Эйнджи с мужем подхватили детей и, прикрывая их от пуль, кинулись в сторону леса. Там защита—лагерь «Движения американских индейцев», своей, родной организации. Туда уже спешили на помощь Леонард Пелтиер и его друзья...
Не будь этой провокации ФБР — не было бы перестрелки. Не было бы перестрелки — не погибли бы два агента ФБР. Но тогда не удалось бы засадить в тюрьму волевого, авторитетного и, значит, опасного для властей индейского вожака. А так все вышло на славу. Леонарду Пелтиеру сразу «пришили» два убийства и в 1977 году осудили на два пожизненных срока. Немножко с запасом. Кто знает, сколько у них, индейцев, жизней.
Вот уже десять лет, как вождь отгорожен тюремной стеной от своего народа, муж — от жены, отец—от детей.
За эти годы чего только не было. Истязания, покушения на его жизнь... Потом пришла весть: узник начал голодовку протеста.
Почему?
Каково ему там, в казематах этой свободной, свободной, свободной Америки?
...Таксист привычно затормозил у толстого бетонного столба.
— Кто такой? — глухим голосом спросил столб. В него, оказывается, был вделан громкоговоритель.
Таксист кивнул мне: давай, мол, отвечай.
— Советский журналист Симонов
— Имеете ли при себе огнестрельное оружие, топор, нож, наркотики?
— Не имею.
— Следуйте к подъезду.
В ветровом стекле вырастала массивная кирпичная крепость, замаскированная под что-то вроде загородной усадьбы. Выкрашенные белым колонны. Кокетливый белоснежный теремок на крыше. Как будто полицейский в полной униформе с дубинкой, револьвером и кандалами у пояса надел кружевной чепец.
В прихожей со стеклами, сквозь которые видно только в одну сторону — на улицу, у меня проверили документы.
— Русский? — изумилась охранница. Ее явно не ввели в курс события.— Вы что же, прилетели к нам прямо оттуда, из России? Из такой дали?
Ответить не успел. Загудел электромотор, и стальные решетки медленно двинулись в стороны. Оттуда, из бронированного зарешеченного чрева, шагнул мне навстречу Пол Тэйлор, высокий чин тюремного царства. Подтянутый, весь с иголочки, волосок к волоску.
Это с ним я вел бесконечные телефонные переговоры об интервью в тюрьме: обьяснял, настаивал, убеждал. Это ему слал срочные заказные пакеты. Это о нем шла речь, когда с американскими друзьями-юристами из нью-йоркского «Центра конституционных прав» мы обсуждали, как добиться нашей цели, на какие законы сослаться.
Наконец настал день, когда Тэйлор как бы вскользь, лениво бросил по телефону:
— Ну, что ж, приезжайте. Вот, скажем, 4-го июля...
И тут же в трубке раздался треск, будто собеседник хлопнул себя по лбу:
— Ба! Да ведь это же чет-вер-тое и-ю-ля! Наш День независимости! Нет, давайте тогда пятого.
Дошло, значит, что в день национального ликования как-то не с руки допускать советского журналиста к заключенному. Да еще к политическому.
Я в тюремном медицинском центре строжайшего режима в городе Спрингфилд, штат Миссури. Через минуту-другую мне предстоит долгожданное, вырванное с натугой, со скрежетом интервью с тем, чья трагическая судьба стала символом надругательства над правами человека в Америке под властью трех администраций.
Ясное дело, тюремщикам Леонарда Пелтиера его встреча с советским журналистом — поперек горла. Тихо умертвить они хотели бы своего узника. Тайно развеять его прах в каком-нибудь болоте подальше от национального Арлингтонского кладбища, от могил неизвестных солдат, посягавших на Корею, Камбоджу, Гватемалу, Вьетнам — на чью только свободу не посягавших. Истинного же борца за свободу здесь ждет тюремный крематорий.
Но заветная мечта властей последнее время сильно затуманилась. Все громче бьет в набат международная общественность. Мощный отклик получила петиция-протест четырех советских академиков, направленная президенту Рейгану. Напор этой всемирной тревоги и выжал из властей согласие на встречу узника с советским репортером.
По счастливой случайности город Спрингфилд, где находится тюремный госпиталь, оказался вне зон, закрытых для советских граждан. Иначе бы встрече не бывать.
Опять гудят электромоторы. Опять ползут в стороны решетки с изображением американского орла с оливковой ветвью в одной лапе и пучком стрел в другой. Сверкают виниловые полы. Чистота современного, научно организованного ада, где не легче от того, что тебя сварят в хорошо отдраенном котле.
Вводят в узкую длинную комнату. Странная комната. Вроде трапезной, где не знают, сколько придет на обед. За столом ряды стульев. Еще горки стульев навалены у стен. В две зарешеченные бойницы рвутся пучки дневного света. Никого.
Внезапно из густой тьмы под окном поднимается призрачный, колеблющийся силуэт. Еще не видя лица, я пожимаю холодную руку. Это узник №89637—132. Таким номером подменили здесь известное теперь всему миру имя — Леонард Пелтиер.
На Леонарде топорщится свежая рубашка цвета хаки с короткими рукавами. Видно, только что выдали. Он жадно курит одну за одной сигареты из полной пачки. Похоже, только что разрешили.
Смотри, красный, какая у нас забота о краснокожих!
Хотя по закону интервью должно проходить без контроля тюремной администрации, Тэйлор не покидает помещения. Более того, на столе перед ним все время мерцает огонек портативного магнитофона. Тем лучше я мог оценить безгранично смелую, крамольную до последнего слова исповедь моего собеседника.
Что сотворят с ним, когда за мной захлопнутся стальные решетки? Не будут ли его жечь вот этими же даровыми сигаретами: зачем сказал то, разоблачил это? Презирающее свои личные интересы мужество борца — вот на какой опоре держится, понял я, весь его характер.
А лицо доброе. В усах пробивается седина. Волосы до плеч — по индейской традиции. Под глазами глубокие тени. В фиолетово-черных морщинках записана невидимая глазу летопись тюремных мук и издевательств.
Во всем облике Леонарда есть что-то болезненное, восковое — почти двухмесячная голодовка даром не проходит.
Гулко скачут между бетонными стенами мячики слов.
— Советские люди очень тревожатся за вашу судьбу. Вот я привез показать, что пишут наши газеты. «Правда»: «За что борется Леонард Пелтиер». «Известия»: «Почему Л. Пелтиер был брошен в тюрьму». Газета для молодежи: «Пелтиер — узник Вашингтона». Прежде всего такой вопрос: как ваше здоровье? Как себя чувствуете?
— Я был очень слаб сначала, когда они привезли меня из тюрьмы Мэрион. Когда перевели сюда, в госпиталь, в Спрингфилд, сразу пригрозили: если не перестану голодать— введут в нос пластмассовые трубки и. начнут кормить силком. В этом-то и причина, почему меня перевели сюда. Хотели сорвать голодовку.
— Что побудило вас начать голодную забастовку? Почему вы назвали свой протест «голодовка ради жизни»?
— В октябре в тюрьме Мэрион случилось нападение на надзирателей. То крыло называют «контрольным блоком». Мы, заключенные других блоков, не имели к этому никакого отношения. Нас даже близко туда не пускают.
Но администрация тюрьмы решила воспользоваться инцидентом, чтобы начать террор в нашей секции. Из камер вытащили буквально все — всю скудную мебель. Пошли массовые избиения. Однажды я пытался заснуть ночью и слышал, как бьют людей. Просыпаюсь в другой раз — опять избивают.
В довершение всего начали религиозные преследования. Я исповедую свою исконную религию коренных американцев, но меня здесь лишили этой возможности. После месяца таких бесчинств не осталось другого выхода, как начать голодовку. Чтобы спасти жизнь. А религия — это часть культуры моего народа, которую тоже надо спасти. Вот почему я начал голодный протест, назвав его «голодовка ради жизни».
— Расскажите, в каких условиях вас держали в тюрьме Мэрион? Я где-то читал, что там приходится пить отравленную воду.
— Да, в реку, откуда в тюрьму поступает вода, сбрасывают яд диоксин. Чрезвычайно высокая концентрация отравы. Администрация тюрьмы сообщила нашим юристам, будто она пытается подвести чистую воду. А пока нас травят. Моя камера там была примерно два метра в ширину и два с половиной в длину. Нары, умывальник, унитаз, и все. Это одиночка. Отделена от всего остального. Обособлена от помещений, где узники могут общаться.
— Верно ли, что вам угрожали там смертью?
— Было два таких случая. В тюрьме безнаказанно бесчинствуют осведомители из числа заключенных. Затевают драки, убивают людей. У меня и моих друзей здесь никакой защиты. По навету тех же осведомителей наших юристов незаконно лишили свиданий с нами. Они, юристы, возбудили судебное дело против тюрьмы и потребовали кое-какие документы. И вот в них оказались показания одного осведомителя, который слышал разговор своей же братии: «Пелтиера надо прикончить, пока он за решеткой». Так по счастливой случайности я узнал об этом, втором плане покушения.
— А первый?
— В первый раз один узник просто признался в разговоре со мной, что его наняли убить меня. Показал мне кое-какие записки, которые хранил. Документы убедили меня. Роберт Уилсон, так его звали.
— Советских людей, принимающих участие в вашей судьбе, естественно, интересуют детали вашей биографии. Какая юность была у человека, который стал одним из лидеров «Движения американских индейцев»? А тут из местной прессы не поймешь даже, сколько вам лет.
— Мне 43. Родился в 1944-м. Мама у меня из племени сиу, отец—на три четверти оджибв, на четверть — француз. Детство прошло в резервации у поселка Белкорт в Северной Дакоте. А жизнь в резервации, сами знаете, не сладкая. У нас — самая отчаянная в стране нищета. Самая высокая смертность. Рекордная безработица — от 82 до 88 процентов. Свирепствуют болезни.
Короче, не жизнь, а бедствие. Люди живут не по-людски.
Семья моя была одна из самых бедняцких. Не помню, когда уж удавалось поесть досыта. Разве что в школе перепадал казенный завтрак. Государственное бюро по делам индейцев откупалось от нас этим завтраком за все.
Жили мы в бревенчатой хибаре, разгороженной пополам. Денег в семье никогда не было, работы — тоже. В общем трудно представить более беспросветную нищету. Как раньше относились к неграм на Юге, так сегодня относятся к нам, индейцам, на Среднем Западе. Да и в других местах, где есть резервации.
Дискриминация сама собой не исчезает. Знаете, в Южной Дакоте, да и в Северной есть много районов, куда индейцам просто-напросто въезд запрещен.
Семья наша распалась, и я с двумя сестренками жил то с отцом, то с матерью. Две резервации разделены сотней миль. Но и тут, и там — одна голь. Доучиться в школе мне не пришлось. Лишний рот был обузой, и с 16 лет я сам себе голова...
Уже тогда меня интересовало: что это за политика, от которой страдают индейские племена? Как раз в те годы администрация Эйзенхауэра родила свою программу «терминации», то есть задумала покончить с самобытностью нашего народа.
Индейцев решили переселить в города. Те, кто отказывался, теряли право на подачки властей. Помню, тогда в нашей резервации умерла от недоедания индейская девочка и мы с отцом, с товарищами вышли с протестом к конторе бюро по делам индейцев.
Шел 1958 год. Год моего политического крещения...
Потом я скитался по Америке, подрабатывал то тут то там. Везде, где мой народ поднимался против властей, там был и я. С рыбаками штата Вашингтон. С борцами против дискриминации в других местах. С теми, кто горевал над трупами индейцев, растерзанных в городе Фармингтон, в штате Нью-Мексико.
Помню, преступников тогда поймали. Два парня, сынки отцов города, из богатых семей. Убили двенадцать индейцев, а получили за это шесть месяцев работ на школьной ферме. Так-то!
Страшные вещи творятся в нашей стране! И все это факты! Все это правда!
Понятно, какая нужда была в организации, которая бы защищала нас от произвола, боролась за права индейцев. Так в 1968 году в штате Миннесота люди племени чиппева создали «Движение американских индейцев» (ДАИ). Я стал одним из его лидеров.
Власти подписали с индейскими племенами 371 договор. Но над каждым потом надругались. Восстановить честь договоров—тоже было задачей нашего движения. Но прежде всего мы хотели прекратить убийства индейцев, которые шли по всей стране. Прекратить истребление народа. Причем не только в США — в Канаде тоже.
Г-жа Свобода с кулаком
— Что произошло в тот роковой день 26 июня 1975 года?
— Прежде всего хочу пояснить одно. Власти, ФБР твердят: я был будто бы «пришельцем», каким-то «посторонним» в резервации Пайн-Ридж в Южной Дакоте. Ничего подобного! Какой посторонний, если там жили моя жена и дети?!
После событий в поселке Вундед-Ни в 1973 году наше движение потеряло больше семидесяти человек, ветеранов нашей борьбы. А всего тогда погибли триста мужчин, женщин, детей. Их забили до смерти, застрелили. Кто преступники? Этим власти никогда не интересовались.
В Пайн-Ридж мы пришли не просто так. Нас пригласили вожди племен, старейшины. Они просили защиты от насилия. Уже само присутствие членов ДАИ в резервации заставляло убийц действовать с оглядкой. Мы также учили жителей резервации хозяйствовать, обрабатывать землю. Одновременно молодые участники движения приобщались к нашим древним традициям, к обычаям предков. Лагерь ДАИ в Пайн-Ридж был местом духовного общения.
В тот день, 26 июня, там объявились два агента ФБР. Есть показания полицейского: они, эти агенты, вели себя так, будто знали, что произойдет инцидент. Фэбээровцы раскатывали на автомашинах по резервации, чуть ли не сбивая прохожих. Хватали людей без всякого на то основания. Увозили и выбрасывали их где-нибудь в городе. Это продолжалось несколько дней.
Когда они ворвались в лагерь ДАИ, меня там не было, я только шел в том направлении. Услышал выстрелы. Подбежал, смотрю: они орудуют там, как гестаповцы. А ведь в лагере были дети, старики, всего человек шестьдесят. Агенты набросились на них, как штурмовики. Люди, конечно, стали защищаться. Началась перестрелка. Тут подоспели так называемые SWAT—специально вооруженные, подготовленные для охоты на людей полицейские части.
Интересно, что они появились через каких-нибудь полчаса. А части эти были из Филадельфии, Лос-Анджелеса. Часа через полтора всю округу оцепили. Нет никакой возможности перебросить за такой срок войска из Филадельфии в Южную Дакоту или из Лос-Анджелеса в Южную Дакоту. Они не могли сюда прибыть. Это было невозможно. И тем не менее они были здесь — с бронетранспортерами, с вертолетами.
Все американские охранки сбежались сюда. Мы не знаем точно, почему так случилось. Но подозреваем: существовал какой-то заговор, какой-то особый план. И началась стрельба...
— Кажется, еще до этого случая власти хотели приписать вам какое-то уголовное дело?
— Это верно. Я был одним из руководителей организованных выступлений индейцев за свои права. В 1972 году вожди индейских племен со всей страны, наши старейшины, в том числе и я, привели демонстрацию протеста к зданию бюро по делам индейцев в Вашингтоне. Намерения были самые мирные. У нас не было оружия. Мы просто хотели высказать правительству наше горе,— как мы тяжко живем в резервациях, что там творится. Пришли в учреждение, которое изображает из себя опекуна индейцев.
Но как неуважительно отнеслись там к нашим вождям! Стали выталкивать их за дверь Тогда мы устроили мирный сидячий протест и сказали: не уйдем, пока к нашим вождям не будет проявлено достойное отношение.
Был вызван целый автобус полицейских, и те стали бить нас дубинками по головам. Но мы держали здание полторы недели. Да, вот что было в Вашингтоне, в 1972-м... Позднее многих наших лидеров, принявших участие в этом протесте, правительство бросило в застенки.
Я вернулся в Милуоки, где был организатором ДАИ. Занимался спасением людей от безработицы. Мы искали рабочие места для индейцев, помогали тем, кто оказался на мели.
Вот тогда-то в одной закусочной мне подстроили провокацию. Какой-то тип напал на меня, пытался убить. Арестовали же опять-таки меня! Причем по обвинению в попытке убийства офицера полиции. Но в суде мне удалось доказать, что это была провокация. Тогдавышла одна свидетельница, подружка того офицера полиции, и призналась. «Он, этот полицейский, показывал мне фотоснимки Пелтиера и говорил: «Мне надо убрать этого индейца. Прижать его, эту индейскую шишку, для правительства, для ФБР». Я выиграл тогда это дело в суде.
— Итак, 26 июня 1975 года вас арестовали якобы за убийство двух агентов ФБР в резервации Пайн-Ридж. Как проходил судебный процесс?
— Мы знали, что власти вступили в сговор с судом и присяжными. Был специально подобран судья Бенсон, реакционер из реакционеров. Обвинители то и дело ездили в Вашингтон за инструкциями, шептались с ФБР. Их там учили, как вести это дело, какие свидетельские показания выставить, какие скрыть. Мои защитники получили тощую стопку этих показаний. Позднее обнаружилось: власти утаили 20 тысяч страниц важнейших документов!
Обвинение строилось на показаниях некой женщины по имени Миртл Пуа Беа. Я ее до того никогда не видел, ни разу в жизни с ней не встречался. Она же заявляла, будто была моей приятельницей, находилась на месте событий, и якобы у нее на глазах я убил тех двух фэбээровцев. Это была грязная фальшивка. Теперь мы знаем, как все было подстроено. Сама Миртл потом рассказала: полиция схватила ее, держала взаперти. Угрожали ей самой, ее детям, вымогали лжесвидетельство. Даже начали обрабатывать наркотиками. Дело дошло до того, что она пыталась бежать.
В целом же у наших адвокатов есть теперь неопровержимые доказательства, что обвинители фальсифицировали орудие убийства и результаты патологоанатомического вскрытия. Как я уже говорил, тысячи и тысячи страниц документов — а они могли бы подтвердить мою невиновность — так и не всплыли на суде.
Но самое поразительное началось, когда в 1978 году мы опротестовали приговор. Главным судьей кассационного суда 8-го участка был знаете кто? Уильям Уэбстер. Он-то и стал решать дело по моей апелляции.
— Уэбстер? Нынешний директор ФБР? [С мая 1987 года — директор Центрального разведывательного управления США.]
— Этот самый Уэбстер! Его кандидатуру уже предложили тогда на пост шефа ФБР, и он принял предложение. Первый суд в стремлении непременно засудить меня наломал столько дров, сделал столько грубых ошибок, что, как мы тогда наивно полагали, оправдание кассационным судом—лишь дело времени Мой приговор был прямым нарушением конституции. Но смотрим: в судейском кресле Уэбстер! Без пяти минут шеф ФБР судит мое дело против агентов ФБР!
Он, конечно, знал, что первичный суд нагородил тьму ошибок, что весь процесс был незаконным. Но Уэбстеру предстояло высокое назначение. И он сделал то, что от него ждали. Подтвердил приговор.
— Иначе говоря, вас принесли в жертву карьере шефа секретного сыска?
— Никакого сомнения. Нам достоверно известно, что так оно и было.
—Ваши адвокаты передали мне фотокопию заключения баллистической лаборатории ФБР, которое тоже скрыли от суда. Эксперт обнаружил, что между вашим ружьем и найденной гильзой-уликой нет никакой связи.
— Представьте, вот ружье. И вот гильза от пули, которой застрелили якобы из этого ружья. Эксперты не могли провести сопоставление по бойку, поскольку боек ружья оказался поврежденным. Экспертиза была проведена по следам экстрактора—то есть выбрасывателя гильзы, а это значительно менее точно.
Но результаты экспертизы представили в качестве главной улики. Теперь же мы наверняка знаем: эксперт ФБР все-таки провел анализ по бойку, и он получился негативным! То есть вовсе не мое ружье было орудием убийства. А так это представили на суде.
Так же фальсифицировали и заключение патологоанатома. Он утверждает, будто агенты ФБР были убиты из одного ружья одним лицом, а именно мной. Теперь стал известен первоначальный результат вскрытия: жертвы были убиты из двух разнокалиберных ружей большой убойной силы. Но обвинение заплатило 50 тысяч долларов одному крупному патологоанатому, чтобы тот дал на суде ложные показания. Этот «эксперт» — продажный человек. Большой взяточник..
— Какие надежды у ваших адвокатов на будущее?
— Мы готовимся к судебным слушаниям насчет результатов баллистической экспертизы. Тех, что тогда утаили. По закону, по конституции у меня есть все права на такое слушание, которое бы решило, быть ли новому суду. Но власти не хотят, чтобы такая уйма порочащей их грязи выплеснулась наружу. Они шустры критиковать другие страны за какие-то нарушения прав человека. Но когда эти нарушения происходят у них под носом, в собственной стране, в Соединенных Штатах Америки, они — ни с места.
В моем деле столько свидетельств в мою защиту, подтверждений моей невиновности! Но нет, они не хотят этим заниматься, боятся разоблачений.
Поэтому-то все слушание сведено к одному-единственному: результатам баллистической экспертизы. Но наши позиции здесь необычайно сильны. Это те самые ложные показания, на которых строилось все обвинение. На эту ложь опирался и сам приговор, и подтверждение приговора Уильямом Уэбстером.
— Известно ли, кому поручили вести ваше дело?
— Не поверите! Им опять занимается судья Бенсон. Моя защита хочет его заменить. Его выступления на разных съездах юристов показывают: этот человек предвзято относится к индейцам, настроен против них. Тем более против меня, кого он уже раз засудил. Ожидать от него справедливых слушаний не приходится. Это немыслимо. Бенсон не изменился.
— Не хотят ли тюремщики снова вернуть вас в Мэрион?
— Если они это сделают, я возобновлю голодовку. Мэрион — зверское место. Я уже говорил, там избивают людей. Меня самого избили только за то, что передал бутерброд другому узнику. Били по рукам, в ребра...
— Кулаками?
— Нет, дубинками! У них такие черные дубинки со стальными наконечниками. Вот тремя-четырьмя такими дубинками меня и обрабатывали. О каких человеческих правах после этого можно говорить! Даже наших адвокатов и тех ущемляют в правах и преследуют.
По правде говоря, и здесь в Спрингфилде не намного лучше. Держат в одиночке, в камере два метра на три с половиной. Никакого общения с другими заключенными. Никаких трудовых программ... Говорят, что, так надо, такой, мол, у тебя приговор.
— Я читал, что у вас двое детей.
— Восемь. Восемь детей. Жена Стефани...
Леонард, кажется, впервые улыбается, и я, не удержавшись, вскрикиваю:
— Где вы потеряли передние зубы?!
— Мне их выбили в 17 лет. Еще в резервации. Полиция выбила. Индейцам запрещалось исповедовать свою религию. Мы, подростки, устроили танец солнца ночью, чтобы власти не прознали. Когда после танца расходились, полицейские, сидевшие до того в засаде, накинулись на нас, сбили с ног. Тогда-то меня... дубинками, башмаками...
Тянется долгая пауза. По коридору у дверей размеренно шагает стражник.
— Я все время думаю здесь о Стефани... о детях... об отце. Отцу, знаете, все хуже, сдает сердце. Мне передали вчера письмо: он исхудал, терзает жесточайший диабет. Шестидесятилетний человек превратился в восьмидесятилетнего. Доктора говорят, конец близок. А я его не видел уже два года. Последний раз друзья собрали денег на его поездку сюда, но путешествие в такую даль почти убило его Думаю, уж не придется увидеться...
— Просачивается ли к вам какая-нибудь информация о том, что происходит в стране?
— Ограниченная. Очень ограниченная.
— На днях в США торжественно отмечалась 20-я годовщина Закона о гражданских правах, подписанного еще президентом Джонсоном. Знаете об этом?
— Нет, не знаю. Ничего не слышал. Какие законы? Какие права?
— Возьмем жизнь индейцев. Произошли ли в ней за 20 лет какие-нибудь изменения?
— Никаких. Абсолютно никаких. Все на том же уровне, как 20 лет назад. Такая же нищета. Разве что нищие постарели. Я даже боюсь, что при Рейгане дела пошли хуже.
Земли индейцев, скрытые там природные богатства — все это по-прежнему крадут монополии. Индейцам перепадают гроши за нефть и уран. Причем у коренного населения Америки нет никаких прав на переговоры с горнодобывающими компаниями. Их, эти переговоры, ведет все то же бюро по делам индейцев.
За то, чтобы отвоевать наши законные права, чтобы улучшить нашу жизнь, чтобы вообще выжить,—за это и ведем мы борьбу. Иначе нам грозит полное уничтожение.
Конечно, среди индейского населения есть свои Квислинги, продажные души. Иные правительственные чиновники — сами индейцы. Но лишь малая горстка людей пошла против интересов своего угнетенного народа, продалась за теплое государственное местечко. Разница такая: есть индейцы, а есть марионетки...
Почему они, власти, фальсифицируют улики и держат меня в тюрьме? Потому что я, не хвастаясь, добивался успеха как организатор. Буквально в день ареста в индейских резервациях по всей стране стали возникать комитеты в мою защиту. Отовсюду в правительство идут тысячи и тысячи протестующих петиций. Идут отсюда, из Америки, и из-за рубежа.
Теперь власти пытаются уничтожить вожаков, которые еще на воле. Убить их потому, что за ними идет народ. В Рассела Минса уже не раз стреляли. Дениса Бэнкса сослали в резервацию в штате Нью-Йорк, Если он двинется куда-то с места ссылки, его посадят на 15 лет в тюрьму. Многих индейских лидеров уже убили, многие в тюрьмах.
Это приказ правительства: преследовать нас и уничтожать!
— Знаете ли вы, что четыре советских лауреата Нобелевской премии заступились за вас перед президентом Рейганом, потребовали от него прекратить нарушения ваших гражданских прав?
— Да, знаю. Хочу через вас передать большую благодарность этим нобелевским лауреатам. Мне трудно выговорить их фамилии, но скажу одно: большое спасибо. Считаю для себя большой честью, что они вступились за меня. Не только сам я, но, знаю, весь мой народ благодарен им. Это так—я знаю.
— Что произошло потом? Какой-нибудь представитель властей пришел, поинтересовался, как вы себя чувствуете? Позаботились они о вас?
— Никто не пришел. Что касается так называемой заботы, то они зашевелились просто потому, что мое дело получило такую международную огласку. И такую поддержку внутри страны. Когда я начал голодовку или когда раскрылся заговор убить меня в тюрьме, в министерство юстиции звонили сотни индейцев и неиндейцев. «Мы знаем об участи Пелтиера,— говорили они.—Требуем, чтобы с его головы не упало ни волоска». Такая поддержка и стала поводом для беспокойства властей.
А так — какая забота! Они только и хотят, чтобы я умер поскорее. Они относятся к нам здесь, как к зверью.
— О судебном издевательстве над вами написаны две толстенные книги. Имя Леонарда Пелтиера все чаще мелькает в газетах. Ваше «дело» — карикатура на положение с правами человека на Западе. Интересно, кто-нибудь из сердобольных западноевропейских лидеров справился о вашей судьбе? Дал понять, что он озабочен? Что идеалы гуманизма несовместимы с расправой над Леонардом Пелтиером?
— Нет. Ничего подобного не было. Ни в прошлом, ни сейчас. Скажу другое: на протяжении тех лет, пока я в тюрьме, мы много раз направляли наших индейских гонцов в западноевропейские столицы. Пытались получить аудиенцию у какого-нибудь правительственного чина. Хотели представить там доказательства, что происходит с индейским народом в США. Рассказать, как нарушаются права индейцев. Как нас чуть не истребили окончательно.
Никто гонцов не принял. Никто не выразил никакой тревоги насчет того, что здесь творится. Никто ни разу даже не упомянул об этом мимоходом.
— В редакцию «Литературной газеты» идут письма, где читатели предлагают создать советский комитет защиты Леонарда Пелтиера.
— Я рад принять помощь советских людей, чтобы разоблачить ту несправедливость, какую надо мной здесь творят.
Добавлю еще вот что. У нас, в американском народе, нет никакой ненависти к советскому народу. Это лишь в верхах кое-кто твердит: русские плохие, они делают то, делают это. Но простые американцы знают: нам нечего делить с русским народом, незачем ссориться...
— Хочу заверить вас, Леонард, что советские люди, советская пресса не забудут вас. Мы будем продолжать разоблачение вопиющего надругательства над вашими гражданскими правами. Вернуть вам украденную свободу, восстановить справедливость — вот стремление советской общественности.
— Благодарю вас. Высоко ценю вашу помощь и принимаю ее.
... Я возвращался из Спрингфилда тем же маршрутом. Сначала на трясущейся «стрекозе» какой-то авиакомпании-лилипута до Сент-Луиса, а потом рейсом «Трансуорлд» до Нью-Йорка. В кабине самолета и на пересадках меня держали в кольце три-четыре филера. Шеф ФБР Уильям Уэбстер, видно, не забыл деньки, когда засудил индейского вожака.
Под самым Нью-Йорком разыгрался шторм. Haul лайнер, чуть не царапая брюхом по небоскребам, вильнул широкой петлей на Питтсбург.
Внизу в прорывах туч проплыла знакомая панорама Манхэттена. Огни города плескались в Ист-Ривер. Казалось, будто река запомнила вчерашний праздничный фейерверк, сфотографировала его на своей глади каким-то новым способом фирмы Кодак.
Да, развеселый был вчера денек! Газеты никак не наговорятся, как разгулялась Америка 4 июля, в День независимости. Какой-то юный талант, например, слопал за девять с половиной минут десять бутербродов с сосисками и тем прославил родной город. Другой умелец отправился в кругосветное авиапутешествие, во время которого будет непрерывно плясать. Собирает таким образом на ремонт статуи Свободы.
А где, кстати, эта знаменитая госпожа? Вон она проплывает внизу, под самолетом,— в металлических лесах, как в клетке. Вчера ее помянул сам Рейган. «Те, кто ищет свободу, находят здесь убежище»,— оповестил страну президент.
Где здесь? В карцерах Мэриона? В одиночках тюремного центра в Спрингфилде? Ведь их, как признал когда-то нынешний мэр Атланты Эндрю Янг, десятки тысяч — политических заключенных, тех, кто отправился было искать в Америке свободу, а кончил в казенном «убежище».
Где, между прочим, твой пылающий факел, г-жа Свобода? Нет его. Вчера, под праздник, спустили на ремонт. Пока над Нью-Йорком, да и над всей страной занесен просто гигантский бетонный кулак.
А, может быть, так и оставить?
В петле
Представьте сизые, уходящие в туман горы с пролежнями снега. Представьте цепочку бараков у их подножия. Одноэтажные сараи, а вокруг каменистое безжизненное пространство.
Это индейская резервация Уинд-Ривер в штате Вайоминг.
Индейцев свезли в такие места, объясняет официальная теория, чтобы помочь им уберечь свою самобытную культуру от размывания технотронной цивилизацией. Надо же спасти для будущих поколений мокасины и амулеты. А то чем же торговать потом в сувенирных лавках?
В солнечный осенний день очередь молодых людей из племен арапахо и шошонов тянется к ритуальной хижине. Там курятся священные травы. Взмах кистью, смоченной пурпурной краской,— и молодые лица окропляет кровавая роса. Дьявол уже не сможет теперь покуситься на эту юную душу, дьявол не посмеет.
Какой дьявол? В 1918 году, когда последний раз совершали этот редкий индейский ритуал, в резервациях свирепствовала эпидемия гриппа-убийцы. А какая напасть на Уинд-Ривер сегодня?
Тоже эпидемия. Эпидемия отчаяния, всеподавляющего чувства беспросветности, на которую обречена жизнь коренного американца в его, казалось бы, родной стране.
12 августа 19-летний индеец написал брату записку «Завещаю тебе мой радиоприемничек». И покончил с собой.
Среди тех, кто нес гроб на похоронах, был 16-летний подросток. Он тоже наложил на себя руки.
Среди тех, кто нес гроб на новых похоронах, опять оказался юноша, которого вскоре не стало. Затем по баракам Уинд-Ривера, как порывы ветра, пронеслись жуткие вести: третье самоубийство! Четвертое! Пятое! Шестое...
За два осенних месяца 1985 года в одной из самых благополучных вроде бы резерваций — а они есть в 26 американских штатах — покончили с собой 9 молодых индейцев в возрасте от 15 до 24 лет. «Эти дети еще не жили, а уже уходят из жизни»,—только и развел руками местный судебный чин.
Большая американская пресса взялась помочь следствию. История хотя и не такая пикантная, как, скажем, кончина киноактера Рока Хадсона от таинственной болезни СПИД, но все-таки широкая публика интересуется. Пока индейское население США сокращалось с 20 миллионов до нынешних 1,4 миллиона — не интересовались. А сейчас, значит, забрало. Почему это краснокожие так зачастили к праотцам?
Еженедельник «Тайм», например, отрядил репортера, который раскопал уйму деталей, обогащающих читателя более глубоким пониманием случившегося. Оказывается, все девятеро повесились. Но один, оказывается, повесился на носках, а другой — на скрученных в жгут тренировочных брюках Отсюда пытливый журналист перескакивает прямо к социологическому анализу Говарда Смита, чиновника государственного бюро по делам индейцев:
«У этих молодых людей слишком много свободного времени. Они пьют, смотрят телевизор и нагоняют на себя депрессию».
А почему у индейцев так хорошо обстоит дело со временем? Не объяснил мудрый чиновник.
Зато вот какие факты попались мне на глаза в американских газетах:
Свыше трех четвертей индейцев страдают от недоедания и голода.
Каждый третий индейский ребенок умирает через полгода после появления на свет.
Продолжительность жизни коренных американцев на 30 лет меньше средней по стране.
Две трети жилья, где ютятся индейцы, не отвечают элементарным медицинским нормам.
К этой печальной статистике теперь можно добавить еще одну цифру—число самоубийств в индейской резервации Уинд-Ривер в 60 (шестьдесят!) раз превышает общеамериканский показатель. В конце XIX века колорадские волонтеры рубили индейцев саблями. Сегодня Америка уже не та, ушла вперед. Может рассчитать на компьютере, как подтолкнуть краснокожего юнца к петле. Суть дела от этого, правда, не меняется. «В течение всей нашей истории отношение к коренному населению сводилось к геноциду»,— признает американский социолог К. Лайтфут.
Впрочем, не все так уж монотонно. Вернувшись как-то в Нью-Йорк из отпуска, я обнаружил в кипе газет отрадное сообщение о новом проекте властей. Он призван скрасить жизнь индейцев племени пайют, обитающих близ Лас-Вегаса в штате Невада. Сама «Нью-Йорк таймс» пришла в восторг от этого, как она пишет, «реалистического плана улучшить экономическую жизнь пустынной резервации».
Что же замыслили? Бордель.
В Неваде торговля телом разрешена по закону, а от закона никто исконных граждан Америки отлучать не собирается. Права человека, сами понимаете. Невадские чиновники из бюро по делам индейцев — это, между прочим, отдел министерства внутренних дел — уже одобрили полезную хозяйственную инициативу. Прикинули и объем прибыли «Согласно предложению,— степенно загибает пальцы «Нью-Йорк таймс»,— племя будет получать плату за аренду помещения (публичного дома.— В. С.)... а также ежегодные регистрационные взносы от проституток и других служащих борделя».
А вы говорите — нет заботы.
Отложив газету, я включил телевизор. На экране театральный индеец в головном уборе с перьями и в мокасинах покупал шикарный «кадиллак». Диктор щебетала, что это, дескать, новое направление коммерческой рекламы, взывающей к патриотизму потребителя. А символы патриотизма — это, мол, гимн, флаг и... индейцы. «Ну, как же, они ведь исконные, первые жители нашей страны».
А в это время в казенных кабинетах Америки кто-то ломал голову, как бы при удобном случае лишить жизни Леонарда Пелтиера. Патриота с большой буквы.

8 Нет рая в Сан-Франциско
Купил билет в Калифорнию — значит, купил билет в рай.
Из пьесы Фрэнка Мэнли «Жуткий дождь»
Семьсот семьдесят седьмой
— Сэр! — окликнул меня сзади жесткий, повелительный голос.— Нарушили закон, сэр! Как ни печально, вынужден вас оштрафовать.
Я обернулся. Передо мной возвышался здоровенный полицейский. Этакая мрачная каланча в стандартной черной форме с многочисленными бляхами и нашивками. Внушительная все-таки у них, здешних «копов», форма.
— За что же?
Полицейский загадочно молчал, глядя мне прямо в глаза.
Потом извлек книжку с квитанциями и начал выписывать штраф.
Что за черт? Машину я в неположенном месте не парковал — брожу пешком. Улицу на красный свет не перебегал Светофоров поблизости вообще нет. Какие еще грехи могли приписать советскому корреспонденту в это безмятежное солнечное утро здесь, на набережной Сан-Франциско, именуемой «Рыбачьи причалы»?
Я беспомощно оглянулся. Со всех сторон меня окружала та самая туристическая идиллия, из-за которой этот тихоокеанский город прослыл «Багдадом-на-заливе».
Вот он, залив Сан-Франциско, прямо перед глазами — тусклая бирюза, убегающая под перину тумана. Город, как часовой, сторожит вход в бухту. Слева, над мачтами шхун, парит знаменитый мост через пролив Золотые Ворота. Километр с четвертью балок и тросов, выкрашенных в алое. Словно какой-то великан зашпилил яркой женской заколкой седые кудри волн.
На том берегу — города-спутники: Окленд с его грохочущим портом, Беркли с его университетской суетой, Ричмонд...
С той стороны залива, с дороги на мост через Золотые Ворота, впервые увидел Сан-Франциско Джон Стейнбек. Увидел — и покорился его очарованию.
«Нью-Йорк сам громоздит у себя холмы, вздымая ввысь свои небоскребы,— писал он в «Путешествии с Чарли в поисках Америки»,— но мой бело-золотой акрополь, поднимающийся волна за волной в голубизну тихоокеанского неба, это было нечто волшебное, это была писаная картина, на которой изображался средневековый итальянский город, какого и существовать не могло... В детстве всякий раз, как мы собирались в Сан-Франциско, меня так распирало от волнения, что несколько ночей до поездки я не спал. Сан-Франциско навсегда оставляет на тебе свою печать».
Со Стейнбеком согласна вся Америка. В 1969 году Институт Гэллапа провел опрос, чтобы узнать, где американцам больше всего хотелось бы жить. Ответ: во Фриско. Но так называют город лишь чужаки. Коренные жители Сан-Франциско не позволят себе такой фамильярности. Как и для Джона Стейнбека, он всегда остается для них Городом с большой буквы.
— Так что же? — вернул меня к делам насущным металлический баритон.— Будем платить штраф или любоваться пейзажем?
Полицейский с треском рванул из книжки квитанцию.
Недоумевая, я полез за бумажником. Попутно бросил косой взгляд в сторону, туда, где у ограды набережной топталась, изображая крайнюю степень увлеченности местными красотами, весьма упитанная, прямо-таки заплывшая жиром дама в просторных джинсах. Где-то я читал, что еще Эдгар Гувер издал приказ, обязывающий агентов ФБР поддерживать спортивную форму Теперь, видимо, опять обленились. Дама таскалась за мной с раннего утра, от самой гостиницы и далее, периодически названивая из уличных телефонных кабинок. Докладывала в Центр. И попутно, надо думать, проклинала этого русского репортера, который не берет такси, а все мечется с фотоаппаратом по закоулкам.
ФБР часто сотрудничает с полицией, устраивая пакости советским корреспондентам. Не дама ли затеяла всю эту странную историю со штрафом?
Или я все-таки допустил какой-то промах? В голове мгновенно прокрутились назад, как видеозапись, те двое суток, что успел провести в «городе на сорока холмах».
Прилетел ночью. Сан-Франциско встретил у аэропорта придорожным плакатом: «Мэр Файнстайн советует: берегите свою жизнь — застегните ремни безопасности». Речь, конечно, шла о новых правилах уличного движения, введенных в те дни во многих штатах. Но когда таксист свернул с Франклин-стрит и машина буквально рухнула вниз по крутому, под 45 градусов, асфальтированному склону, стало ясно: тут без ремней безопасности и впрямь не обойтись.
Холмы Сан-Франциско... Их проклинают в дождливые дни автомобилисты. На них испокон веков ворчат престарелые пешеходы. Но без них город не был бы самим собой. Это его душа, примета его неповторимой индивидуальности. В те ночные часы квадратики светящихся окон то всплывали в ветровом стекле такси, то стремительно проваливались куда-то вниз, и казалось, что между аэропортом и гостиницей — не улицы, а какой-то чудовищный аттракцион «американские горки», откуда не выбраться живым.
К тому же холмы Сан-Франциско — поющие холмы. Кое-где с тротуара слышен низкий, напряженный рокот, будто таинственный органист взял под землей одну ноту, да так и замечтался навек. Это гудит, напоминает о себе сама история города. В особом полом рельсе движется бесконечный стальной трос, что дает жизнь, пожалуй, главной здешней достопримечательности — канатным трамвайчикам.
Их придумал и построил в 1873 году иммигрант из Англии по имени Эндрю Хэллиди. Умелец был потрясен кровавой уличной катастрофой — запряженная в повозку лошадь упала на скользком крутом холме — и захотел разом решить все транспортные беды Сан-Франциско. Не решил. Зато столетие спустя трамвайчики стали «движущимися историческими памятниками».
Сегодня сохранились всего три линии. Оливковые, заклеенные рекламой вагоны останавливаются прямо на перекрестках, приводят в неистовство нетерпеливых таксистов, на их ремонт город угрохал в 80-х годах 58 миллионов долларов, но роман горожан со своей позванивающей в колокол историей на колесах не остывает.
Канатный трамвай наверняка вползет в XXI век.
Я, ясное дело, не устоял перед соблазном повисеть на подножке вместе с ватагой студентов. Не за это ли штраф?
Спуск с холма — как наглядный урок по обществоведению. С вершины на город надменно взирают викторианские особняки с массивными парадными лестницами и цветными витражами. Бронзовые дощечки начищены, псы откормлены. Но чем ниже, тем беднее жилье. Незапертые подъезды зияют темными мрачными провалами, перекошенные двери вот-вот сорвутся с петель. Вместо занавесок в окнах куски картона, пожелтевшие газеты. Так сказать, социальное благополучие в разрезе.
Что это? Прямо на траве газона — груда человеческих фигур. Запеленуты, как в кокон, в замызганное тряпье. Дремлют вполглаза на черных пластиковых мешках, в каких тут выбрасывают мусор. Там же, в мешке, все пожитки — последняя ниточка, связывающая отверженных с этим лубочным, словно сотворенным на потеху туристу городом. А может быть, и с жизнью.
Бездомные. Почему мне казалось, что их не может быть в Сан-Франциско? Гипноз солнца, трамвайчиков, крутых улиц. Беда вроде бы несовместима с бирюзовой идиллией залива, с торжественной мощью мостов.
Кодаковская открытка и человеческая трагедия. И теперь уже туристические красоты кажутся призрачными, ненастоящими, заимствованными из театральной бутафории...
— Сколько их?
— Бездомных? Честно говоря, не знаю... Никто не считал. Десятки тысяч? Не знаю... Накатываются приливами в нью-йоркские морозы, в месяцы, когда урезается финансирование лечебниц для душевнобольных...
Я в муниципалитете Сан-Франциско, в офисе жилищного и экономического развития. Со мной беседует Джин Брукс, одна из директоров этого отдела Невысокая, хрупкая женщина, она на редкость энергична и — чем советских журналистов обычно не балуют—довольно откровенна.
— Знаете,— постукивает она карандашом,— ведь у города и деньги есть. Чтобы построить доступное простому люду жилье, нашлись бы миллионы.
— За чем же стало?
— Земля. Безумно вздули цену на землю. Землевладельцы норовят поживиться за счет крупных концернов, тех, что сооружают здесь себе штаб-квартиры. А муниципалитет, что он может? Ему не под силу тягаться с какой-нибудь фирмой-богатеем вроде «Ливайс». Знаете джинсы «Ливайс»? Вот так. Мы сейчас осушили один пруд. Может быть, построим там башню для людей без достатка Если сваи будут держать...
Джин Брукс набрасывает довольно безрадостный социально-экономический эскиз Сан-Франциско короткими деловыми фразами. Американка сидит против света, лица почти не видно. Волнуют ли ее проблемы, которые осаждают со всех сторон «Багдад-на-заливе»? Неизвестно Похоже, будто врач бесстрастно диктует результаты обследования пациента.
В чем главная беда города? В том, что после второй мировой началось бегство индустрии за городскую черту. Производственная база сдвинулась в близлежащие округа, где и земля дешевле, и доступ для транспорта легче. К тому же Сан-Франциско проворонил, не провел контейнеризацию порта. В результате главный океанский поток грузов достается теперь Окленду.
С другой стороны, в город устремились корпорационная бюрократия, различные федеральные ведомства. Сегодняшний Сан-Франциско — это центр высокоспециализированных отраслей обслуживания. Здесь сгрудились, буквально сидят друг у друга на плечах юридические конторы, банки, страховые компании.
Город-труженик стал обителью менеджеров.
В этом смысле он, правда, уступает соседу Лос-Анджелесу. Из пятисот крупнейших американских монополий, список которых публикует каждый год журнал «Форчун», в Лос-Анджелесе свили себе штаб-квартиры 13, а здесь, в Сан-Франциско, — всего 4.
— Но кое-кто из жирных котов пригрелся и у нас,— не без гордости замечает Брукс.
Моя собеседница загибает пальцы. «Бэнк оф Америка», знаете, самый крупный частный банк, тысяча отделений по всей Калифорнии, потом «Стандард ойл компани оф Калифорния», «Пасифик гэз энд электрик компани», «Трансамерика» и, конечно же, «Бекел», тот самый таинственный и могущественный «Бекел», который заполонил правительственные кабинеты своими людьми. Госсекретарь, министр обороны, директор ЦРУ — все оттуда.
Джин кивает в сторону окна, как будто за ним можно разглядеть небоскреб «Бекел».
Чего стоили эти послевоенные перемены Сан-Франциско? Многого. Прежде всего утраты собственного рабочего класса. Брукс так и говорит «класса»: городская история рабочего движения так богата, что этого слова не боятся даже государственные чиновники.
«Синие воротнички», то есть рабочие, были вытеснены «белыми воротничками». Начался процесс так называемой «джентрификации»—залетевшее из Британии словечко, означающее произвольное вздувание цен на все, прежде всего на жилье, чтобы «облагородить» социальный состав горожан. Лицемерный термин. На деле — это изгнание малоимущих на окраину, а то и прочь на все четыре стороны.
Сегодняшний Сан-Франциско — один из самых дорогих городов страны. Он доступен только или очень состоятельному американцу, или тому, кто уже на дне. Первый готов выложить 600—800 долларов за аренду скромненькой двухкомнатной квартирки в более или менее приличном районе. Второй готов ночевать на газоне, подоткнув под голову черный пластиковый мешок.
Середины нет. Если Соединенные Штаты — страна контрастов, то Сан-Франциско — ее витрина.
— Ну а какие у города статистические рекорды? — спросил я, прощаясь.
Джин Брукс поняла меня с полуслова. В Америке обожают регистрировать все «самое-самое». На той же набережной «Рыбачьи причалы» я заскочил в музей, созданный вокруг знаменитой «Книги рекордов Гиннесса». Есть на что посмотреть. Восковой муляж человека с самыми длинными в мире ногтями... Портреты двух молодцов, хлеставших друг друга по щекам в течение 68 часов... Ну, а чем может похвастать город на сорока холмах, кроме этих самых холмов?
— Циррозом,— невесело усмехнулась Джин.— Циррозом печени. Пожалуй, нигде по стране нет такой высокой смертности от этой болезни. Алкоголизм...
— Нет, нет, городские власти не дремлют, — спохватывается она.— Мы, например, разбили особый парк, он так и называется «Парк для пропойц». Там скамейки с широкими сиденьями. Спать удобно. Между прочим, тоже единственный в стране...
Джин Брукс энергично жмет мне руку. Я покидаю муниципалитет в состоянии некоторого изумления. Скамейки с широкими сиденьями! По той же логике городские власти могли бы раздавать бездомным резиновые коврики, чтобы было не так мокро спать на мостовой.
Между прочим, моя собеседница умолчала еще об одном «рекорде» Сан-Франциско. Еженедельник «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт» написал в те дни:
«Городской показатель самоубийств — 20 случаев в год на каждые сто тысяч человек — неизменно возглавляет национальную статистику. Мост через пролив Золотые Ворота собрал более щедрый урожай таких жертв, чем любое другое сооружение или место в мире. С 1937 года, когда мост открыли, там достоверно зарегистрировано 776 самоубийств».
В это трудно было поверить в тот солнечный день на набережной «Рыбачьи причалы». В своем туристическом гриме Сан-Франциско воистину неотразим! Рестораны и сувенирные лавки старались потеснить друг друга яркими вывесками. Уличные торговцы колдовали над огромными чанами, где в кипятке застенчиво рдели в ожидании гурмана тихоокеанские крабы. В медь оркестра «Армии спасения» вклинивались какие-то рыдания — это кричал, требовал к себе людского внимания плескавшийся у берега морской котик.
— Вот вам квитанция за штраф,— протянул мне листок «коп». Там значилось: «Три доллара Потешный патруль».
Только тут я заметил, что сверкающие бляхи «полицейского» грубо выкроены из жести, да и вся его «форма»— дешевый, схваченный на живую нитку маскарадный наряд.
Лицо человека исказилось. Смущение, боль, ожидание — вот что читалось в убегающем, исподлобья, взгляде.
— Простите, сэр.— Его голос сорвался на шепот.—Это розыгрыш. Я безработный. Другой работы нет, вот и... Для вас пара долларов, а для меня—двое суток без голодухи... Подайте, сэр...
Смяв в кулаке долларовые бумажки, он повернулся и побрел прочь — сразу поникшая, согбенная фигура. Впереди его ждали ослепительные красоты «Багдада-на-заливе» и — безнадежность.
... Наутро местная «Трибюн» тиснула крохотную заметку: с моста Золотые Ворота бросился очередной самоубийца. Безработный, двое детей. Семьсот семьдесят седьмой по счету.
Новый рекорд.
Яростный Гарри
Как родился Сан-Франциско?
Взбираюсь по крутым улицам. Брожу по площади Джирарделли, где все, даже, кажется, фонарные столбы, пропахло шоколадом,— здесь приютилась знаменитая конфетная фабрика. Заглядываю в магазинчики «чайна-тауна», самого большого китайского поселения в Новом Свете. И не покидает ощущение, что под ногами—сама история колонизации американского Запада. Жестокая, падкая на наживу.
Как родился Сан-Франциско?
Кесаревым сечением. Вместе с Калифорнией и прочими юго-западными штатами его вырубил из чрева Мексики меч конкистадора. Деревушка Йерба-Буэна мирно дремала на берегу тихоокеанской сини, когда 9 июля 1846 года фрегат «Портсмут» выбросил сюда вооруженный десант и тот воткнул американский флаг на главной площади.
Поселок был, кажется, первым трофеем. К тому времени война Штатов с Мексикой продолжалась всего месяц.
Год спустя население Сан-Франциско, переименованного так в честь залива, насчитывало 459 человек. Деревушка, быть может, так бы и затерялась в прибрежной глуши, если бы не одна находка, перевернувшая историю Дальнего Запада.
Россыпь золотых самородков. На них набрел десятник, подбиравший место для лесопильного завода у подножия хребтов Сьерра-Невады.
По стране поползли слухи: в Калифорнии наткнулись на Эльдорадо! Нашли мифическую страну, где легендарный индейский вождь будто бы хранит свои сокровища! Через несколько недель Сэм Бреннан, старейшина мормонской церкви, доказал всем, что это не сказка. Он торжественно вышел на улицы Сан-Франциско с бутылью, полной тяжелого, искрящегося песка.
— Золото! Золото с Американской реки!
Еще через несколько дней из лавок исчезла последняя лопата, последняя кварта рома. Местная газета закрылась. Все двинулись к предгорью Сьерра-Невады в догонку за призраком мгновенного обогащения. Весть о калифорнийском Эльдорадо облетела Штаты, возмутила спокойствие в заокеанских краях. Корабли с искателями удачи из Перу, Чили, Австралии присоединились к американской армаде, штурмовавшей пролив Золотые Ворота.
Золотые... Разве можно было назвать их как-то иначе.
Сан-Франциско захлестнуло людское наводнение. Население городка удваивалось каждые десять дней. Вскоре на койках спали посменно десятки тысяч тех, кого история окрестила в честь того памятного 1849 года «сорока-девятниками».
Газеты хвастливо подсчитывали: в городе питейных салунов — 537, заведений сомнительной репутации — 48, игорных домов — 46. Цивилизация частного предпринимательства выставила напоказ свои прелести.
Так началась «золотая лихорадка». Времена, вдохновившие Чарли Чаплина, Брета Гарта, Марка Твена. Говорят, они навсегда оставили свою печать на Сан-Франциско, сделав город вечным прибежищем либерализма, мятежной мысли и социального бунтарства.
«Где они теперь? — с философской ностальгией вспоминал Твен «сорокадевятников».— Заброшены на край света или преждевременно состарились и одряхлели, или застрелены, зарезаны ножом в темных переулках, или померли с разбитыми от несвершившихся надежд сердцами — все сгинули или почти все — жертвы, принесенные на алтарь золотого тельца...»
Сегодня Твену можно бы ответить. Да, на алтаре по-прежнему тесно от поклонников корысти. Но живы и дух вольнодумства, жажда риска, желание царапнуть своей судьбой устои общества — все то, что поселилось в Сан-Франциско вместе с первыми аргонавтами.
Не он ли, этот дух, обуял в 1962—1964 годах городки Калифорнийского университета? Студенты восстали тогда против академического мракобесия и зажима свободы слова. Им досталось от губернатора штата. Тот проклял «недовольных, битников и защитников сквернословия». «Подчинитесь правилам или вон!» — грозил он. Губернатора звали Рональд Рейган.
Не он ли, этот дух вольнодумства, вселился в лохматые головушки вожаков «хиппи»? Как считают социологи, движение «цветочных детей» родилось здесь же, в Сан-Франциско, на рок-фестивале 1966 года. Хотя и пассивно, но тогдашняя молодежь противопоставила мир и любовь войне и жестокости капиталистического общества. Отсюда, из богемного квартала Хайт-Эшбери, вылетело и само словечко «хиппи».
Но подлинная летопись мятежного, готового постоять за свои права Сан-Франциско началась намного раньше.
...Иду по пирсу №39. Балаган туристской суеты разыгрался вовсю. Можно отправиться на катере по заливу. Прокатиться на карусели под вздохи радиошарманки. Или сфотографироваться на память с огромным, невероятно надменным красавцем какаду. Обвешанный фотоаппаратами турист послушно мечется между этими источниками немудреной радости.
И никто не вспоминает, как вот там, на соседнем пирсе №38, асфальт побурел от темной, запекшейся крови, а розы обрамляли место, где было выведено мелом:
«Их убили здесь! Убила полиция».
— Нас было тысячи полторы. Пикетировали доки. Хозяева наняли штрейкбрехеров, посадили их на грузовики — и ну на полном газу на нас! Мы сперва не поверили своим глазам. Но тут полиция взяла нас на прицел. Грохнули выстрелы Тогда уж стало ясно — капитал объявил войну народу...
С Гарри Бриджесом легко говорить. Он понимает тебя с полуслова, словно читает мысли. Человеку 84 года, а голова светлая. Его дар общения, талант настройки на душевную ноту собеседника не притупился, не угас.
Это о Гарри кто-то сказал, перефразируя известный афоризм: «Настоящие рабочие вожаки не стареют, не умирают. Они растворяются во времени»
Гарри Бриджес — не просто ветеран профсоюзного движения Америки. Это человек-легенда.
В клетчатой кепке, клетчатом пиджаке, в белой рубашке с распахнутым воротом, худой и согбенный, с крупным, торжествующим над всеми остальными чертами лица носом, он похож на птицу, изможденную тяжелым дальним перелетом.
Гарри говорит шелестящим, едва слышимым голосом. Часто останавливается, чтобы отдышаться. Я знаю, у него тяжелое заболевание легких. Десятилетия борьбы за права рабочего класса бесследно не прошли.
Кровь на асфальте. Сто раненых, двое убитых. Это случилось 5 июля 1934 года, в день, вошедший в историю Сан-Франциско как «кровавый четверг». Тогда хозяева порта, владельцы пароходных компаний хотели сорвать забастовку, организованную Международной ассоциацией докеров — профсоюзом, созданным юным эмигрантом из Австралии Гарри Бриджесом.
— Требования у нас были простые,— вспоминает Гарри.— Даешь тридцатичасовую рабочую неделю! Даешь зарплату, чтобы не умереть с голоду! И «закрытый цех». То есть, чтобы портовые боссы не нанимали штрейкбрехеров, не пользовались раздачей работы, как пряником и кнутом.
За «кровавым четвергом» пронеслась неделя не менее кровавых погромов Власти пытались сокрушить рабочее единство. Тысячи национальных гвардейцев и «бдительные граждане», как именовали себя наемные бандиты, ломились в профсоюзные конторы, в ячейки коммунистической партии. Рвались газовые бомбы, горели костры из книг.
У Гарри Бриджеса хранится убийственный по символике документ тех дней. На снимке, сделанном каким-то безымянным газетным фотографом, пламя пожирает популярный тогда роман Синклера Льюиса «Этого не может произойти у нас».
— Может,— качает головой Гарри.— Фашизм американского образца жив по сей день...
Тогда, в 1934-м, докеры защищали свою забастовку как могли. Даже посыпали брусчатку набережной стальными шариками, чтобы спешить конную полицию. Помогла трудовая солидарность. В городе закрылись магазины, закусочные, театры. Улицы Сан-Франциско стали полем битвы для самой большой всеобщей забастовки в истории Америки
И она победила.
— У нас не было казны, как у нынешних бонз АФТ— КПП [Крупнейшее профсоюзное объединение США.],— говорит Гарри.— Казна была в карманах рядовых докеров. И кто еще нам помог, кто был всегда во главе пикетов, так это — коммунисты.
Когда в конгрессе верховодил Маккарти, рабочего вожака дважды таскали в суд. Обвиняли в тайной принадлежности к «подрывной организации коммунистов», хотели депортировать из Соединенных Штатов.
— Вы не коммунист?! Нет?! — вопрошал прокурор.— Тогда почему ваш профсоюзпринимает у партии помощь?!
— Все очень просто,— отрезал Бриджес.— Они на нашей рабочей стороне. И потом я целиком согласен с их программой.
Гарри оправдали. Но на его профсоюзе, на местном филиале Международной ассоциации докеров, навсегда осталась каинова, по здешним меркам, печать левизны. В 1950 году АФТ—КПП пришло к выводу, что в профсоюзе «засели коммунисты», и исключило его из своих коллективных членов. С тех пор тред-юнион действует как независимый.
Видно, с тех же самых пор Гарри Бриджес скептически относится ко многим боссам АФТ — КПП.
— Кое-кто из них далек от рабочих, как дворец от ночлежки,— говорит он.— Смотрите, сколько они заколачивают денег. Иной лидер АФТ—КПП кладет в карман 100 тысяч долларов в год! Где уж тут влезть в шкуру рабочих парней, проникнуться их интересами...
Во что Гарри Бриджес беззаветно верит, так это в рабочее движение, в его будущее.
— Что-то обязательно произойдет. Случится какое-то историческое событие, появится какая-то новая общественная программа, и рабочие руки сомкнутся в цепь пикетов. И начнется борьба до победы. Как тогда, в 1934-м.
— А есть намеки на такую программу? — спрашиваю я.— Маячит на горизонте что-то, что может всколыхнуть трудовую Америку?
Гарри Бриджес кивает. Кисть его правой руки, изуродованная портовым краном, цепляет, будто крюком, сложенный лист бумаги.
Читаю:
«Коалиция против «звездных войн». Форум действий. Разработать стратегию борьбы со «звездными войнами».
Это воззвание коалиции, созданной в Сан-Франциско.
«Развертывание в космосе «стратегической обороны» обеспечит Америку новым оружием первого ядерного удара,— говорится в документе.— Примкните к нам, к нашей борьбе за то, чтобы вернуть мир космосу, этому передовому рубежу цивилизации!»
Под воззванием подписи. И среди них: Гарри Бриджес, почетный председатель «Коалиции против «звездных войн». Рабочий вожак не мог уйти на покой, когда грозит гонка вооружений в космосе.
— Вот что сегодня самое важное,— стучит по листу скрюченная, натрудившаяся за семь десятилетий рука.— Вот что может всколыхнуть рабочую Америку...
Инкубаторы смерти
Утром отправляюсь на морскую прогулку по заливу. Катер натужно идет против сильного ветра, волны ухают по металлической обшивке многотонным молотом. Пассажиры тянутся вниз, к бару.
На верхней палубе только мы с гидом. Тот тараторит в микрофон, будто комментирует какой-то захватывающий матч по регби.
— Взгляните, прошу вас, вперед! Вперед по курсу! Видите остров? Мы приближаемся к месту, где томились самые коварные, самые кровавые, самые удачливые преступники, каких только рождала Америка...
Гид описывает остров Алькатраз. Вдохновенно описывает. Собственно, привлекать внимание к нему вряд ли нужно — остров и так на виду у всего города. А до недавнего времени — как бельмо на глазу. Приятно ли любоваться панорамой гавани, если знаешь — вот там держат людей в холодных карцерах, стреляют им в лицо из газовых пистолетов, избивают дубинками и морят голодом?
С 1934 по 1963 год на Алькатразе размещалась знаменитая федеральная тюрьма.
Сегодня туда вернулись альбатросы, некогда давшие острову имя, и в еще большем, поистине несметном количестве — туристы. Преступник в Америке — такой же привычный объект обывательского поклонения, как, скажем, популярный киноактер. Поэтому из тюрьмы сделали музей. Плати, путешественник, за то, чтобы прикоснуться к стальным решеткам, колупнуть ногтем крепостные стены.
Наш катер швартуется у причала. Огромный, сохранившийся с давних времен щит предупреждает: «Лица, способствующие побегу узников или укрывающие их, подлежат тюремному заключению».
В том-то и дело, что тюрьма на Алькатразе была задумана как место, откуда невозможно бежать. Ее именовали «корзиной для гнилых яблок». Власти мечтали запереть здесь надежно, навечно самых опасных гангстеров. На них так щедра была эпоха «великой депрессии» и «сухого закона». Аль Капоне, Роберт Строуд, Джордж «Пулемет» Келли...
Их похождения воспеты в десятках голливудских лент. Их биографии вдохновили немало здешних сочинителей авантюрного чтива. Любой американский школьник знает, как Аль Капоне играл с тюремщиками в карты, а Роберт Строуд увлекся орнитологией и держал в своей камере сотни три птиц.
А кто такой Альберт Эйнштейн? Восемь из десяти американских школьников на этот вопрос не ответят.
— Отсюда, из тюрьмы, было четырнадцать побегов. За три десятилетия — всего четырнадцать! И нет доказательств, что кто-то из беглецов вырвался на волю живым...
По казематам Алькатраза нас водит девица-гид в широкополой ковбойской шляпе. Кажется, будто на досуге она укрощает диких мустангов — так мощно хлопает зарешеченными дверьми, так зычно оглашает тюремное меню. Туристская братия внимает в немом восхищении.
Кульминация экскурсии — это история о том, как здесь перевоспитывали строптивых узников. Девица рассказывает в лицах, с упоением. Методы были разные, понимаете? Иных раздевали донага — и на шесть недель в ледяной каземат! На холодном полу-то не уснешь. Так они дремали, стоя на коленях и локтях. Вот в такой камере, видите? Желающие могут зайти. Получить представление. Не волнуйтесь. Запру вас там всего на минуту-другую...
Толпа желающих кидается в бетонный карцер. Вхожу и я — меня занимает эта жадная готовность американца получить, как здесь говорят, «полное обслуживание за свои деньги».
Железная, сантиметров в двадцать толщиной, дверь захлопывается. Скрежещет засов. Кромешная тьма, даже щелей нет. Слышно, как тяжело дышит какой-то толстяк, как звякнула у кого-то в кармане мелочь.
— Здесь сидел Аль Капоне,— шепчет мужской голос, видимо, на ухо подружке.
— Знаю, знаю,— шепчет та.— Он ... и мы...
Причал залит солнцем, кричат альбатросы. Появляется фотограф, тот, что щелкал всех пассажиров час назад, когда они только поднимались на борт катера. Теперь он бойко торгует снимками. Они напечатаны так, что лица оказались за тюремной решеткой. Сувенирчик в семейный альбом
Значит, прокатились не зря. Приобщились к истории тюремного дела, а заодно — к гангстерской славе. И никто — ни девица-гид в широкополой шляпе, ни довольные своими приключениями туристы не вспоминают о поразительном факте из новой истории Алькатраза.
В 1969—1971 годах остров захватили индейцы. Выжитые с исконных земель, загнанные в резервации, они задумали создать на Алькатразе свое национальное поселение, свою республику.
Хотели обрести волю в бывшей тюрьме. Больше на просторах Америки, похоже, негде.
...Катер берет курс на Сан-Франциско. Вдалеке, там, где белесые облака сливаются с барашками волн, угадывается гавань Окленда. Гид выразительно машет рукой в сторону берега и выключает микрофон.
— Что там?
— Ядерное оружие. Мы туристам об этом ни-ни...
Военно-морская база Аламеда, смотрит на Сан-Франциско с восточного побережья залива. Дымка мешает разглядеть это прибежище эсминцев и крейсеров, оснащенных ядерной смертью. Но в ясный день и с более близкого расстояния, говорят, видно приземистое здание, окруженное темными фигурками морских пехотинцев. Солнечные лучи искрятся на отточенных как бритва шипах колючей проволоки. Склад ядерных зарядов хранит свои секреты.
Но это секреты Полишинеля. Мирные активисты города давно разобрались, какой потенциал ядерного удара спрятан в окрестностях Сан-Франциско, в примыкающей с юга Силиконовой долине и в серебристо-стеклянных коробках аэрокосмических концернов, притаившихся в округе Сан-Диего к югу от Лос-Анджелеса.
Это другая Калифорния — не апельсинов и солнца, а засекреченных лабораторий и поточных линий. Там благоговейно творят мегасмерть. «Ядерная Калифорния»—так называется и книга, изданная антивоенными организациями «Гринпис» и Центром исследовательского репортажа, чьи штаб-квартиры находятся здесь, в Сан-Франциско.
Читая ее, понимаешь: Калифорния — это и фабрика, и арсенал ядерной войны. Здешние оружейные концерны проглатывают сегодня 22 процента военного бюджета США. Каждый восьмой житель штата вынужден работать на потенциальное убийство цивилизации.
Орудия убийства под рукой: в арсеналах Калифорнии хранятся 1437 ядерных боеголовок — больше, чем где-либо еще в Америке, кроме Южной Каролины, Нью-Йорка и Северной Дакоты.
— Сегодня у наших военных фабрикантов пир. Вторая «золотая лихорадка». Им привалило. Не зря Пол Уорнке, знаменитый наш эксперт, всю жизнь занимавшийся проблемами разоружения, назвал ее «бочкой сала в небе»...
Ее — это рейгановскую программу «звездных войн». Мы сидим с д-ром Солом Блумом, директором Исследовательского центра по контролю над вооружениями, в его кабинете на Маркет-стрит, в деловом районе Сан-Франциско, и размышляем о главном. О том, что не дает спать многим в Америке. О замысле администрации США сделать из космоса пентагоновскую базу.
Рукой опытного пианиста Сол Блум скользит по клавиатуре компьютера. На экране появляются последние расчеты предполагаемой стоимости СОИ—ударной космической системы, которую в Вашингтоне именуют «космическим щитом».
Только на исследовательские работы до 1994 года — 90 миллиардов.
Общая цена — по расчетам бывшего министра обороны Джеймса Шлесинджера — свыше одного триллиона!
— Для калифорнийских аэрокосмических дельцов «звездные войны» — это гарантия неслыханных прибылей. Этакий ядерный Эльдорадо. Причем и в третьем тысячелетии,— объясняет мне Блум.
Ученый говорит стремительно, отрывисто. Что именно его тревожит? Предстоящая космическая растрата национальной казны? Бегство гонки вооружений поближе к звездам — подальше от контроля?
— Больше всего меня возмущает вот что,— словно угадав мои мысли, говорит Блум. — Пропагандистский обман. Ведь программа «звездных войн» подается у нас как техническая альтернатива политическим мерам вроде вашего моратория на ядерные взрывы. СОИ вроде бы вызвана к жизни по просьбе американских сторонников мира. А на самом деле, смотрите...
Его пальцы снова играют гаммы на компьютере. Экран откликается столбиком цифр:
ТРВ — 424 миллиона,
«Боинг» — 217 миллионов,
«Локхид» — 192 миллиона...
— Это суммы контрактов на работы в области СОИ. Тех, что уже получены калифорнийскими концернами. Видите, как спешат опорожнить бочку с салом!
Сол Блум щелкает выключателем. Зеленый компьютерный экран гаснет. Без светящегося квадратика в кабинете становится уныло.
Ученый тоже не весел. Прощаясь, задерживает мою руку в своей.
— Как считаете,— спрашивает он,— если бы попросить наших фабрикантов оружия придумать самую прибыльную замену разоружению, что бы они придумали?
— Программу «звездных войн»?
— Угадать нетрудно...
Вечером к гостинице подкатывает старенький «форд» Новые американские знакомые Роберт Гоулд и Олга Таламанте везут нас с женой на окраину Сан-Франциско, туда, где группа молодых социологов, историков, активистов мирного движения арендовала этаж под свой «Центр по исследованию американского милитаризма».
Час поздний, а за длинным столом кипит работа. Человек пятнадцать—двадцать надписывают конверты, клеят марки и напевают что-то ритмичное, латиноамериканское.
Задумали собрать деньги на клиническую лабораторию, чтобы подарить ее народу Никарагуа, объясняет Олга. Рассылаем просьбы о пожертвованиях. Жители Сан-Франциско наверняка откликнутся—такие сборы уже проходили, и с успехом. Народ хочет противопоставить свой трудовой доллар тем подрывным миллионам, которые ЦРУ ссужает головорезам «контрас».
Нас ждут в библиотеке центра. Разговор снова возвращается к угрозе милитаризации космоса. Среди моих собеседников несколько студентов и молодых ученых из Беркли, одного из девяти филиалов гигантского Калифорнийского университета.
— Смотрите, чем нас закидали,— показывают мне листовку.
Я уже знаком с этим любопытным документом. Организация по осуществлению стратегической оборонной инициативы — так назвал себя новый пентагоновский департамент, занимающийся «звездными войнами», — соблазняет академический мир:
«Возможность участвовать в захватывающих исследованиях... Новые, волнующее времена... Немедленный и одобрительный отклик научных кругов, лабораторий, бизнеса...»
По существу, это попытка «закупить мозги» для создания космической кормушки монополий. Причем, попытка во многом провалившаяся. Никакого одобрительного отклика не было. Напротив, 2100 ученых, инженеров и 1600 аспирантов по всей Америке подписали клятву не участвовать в «технически несостоятельной, опасной и неудачно задуманной» программе СОИ.
— А как Ливермор? — спрашиваю я.
— Ливермор клюнул,— вздыхает Боб Гоулд.—Только какие же это университетские ученые? Это пентагоновские ядерных дел мастера...
Мы говорим о Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, расположенной в долине к востоку от Сан-Франциско. Вместе с исследовательским центром в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, Ливермор — это колыбель почти всех систем американского ядерного оружия. Здесь были сконструированы боеголовки для баллистических ракет «Посейдон», «Поларис» и крылатых ракет. Стратегические ядерные бомбы для бомбардировщиков В-52. Артиллерийские ядерные снаряды, головки с разделяющимися и самона-водящимися боевыми частями..,
Короче, это инкубаторы ядерной смерти.
Их обслуживают 16 тысяч человек, а общий бюджет двух лабораторий перехлестнул полтора миллиарда долларов в год.
Самое интересное: и Ливермор, и Лос-Аламос рядятся, так сказать, в студенческие джинсы. Хотя деньги дает федеральная казна, хотя наука здесь стоит навытяжку перед Пентагоном, формально эти ядерные мастерские входят в состав Калифорнийского университета.
Псевдонезависимый статус приносит массу удобств. Президенты, сенаторы обращаются сюда за рекомендациями насчет тех или иных систем ядерного оружия. Просят совета, как подступиться к такой-то проблеме контроля над вооружениями. Внешне все это выглядит крайне солидно: Вашингтон, мол, прислушивается к мнению крупнейшего университета. Наука поучает политику. Как мило!
На самом же деле за этим скрывается нечто другое. Пентагоновские придворные советуют только то, что выгодно Пентагону, а в более широком смысле — военно-промышленному комплексу.
Не случайно в конце 70-х годов, когда СССР и США вели переговоры о всеобщем запрещении ядерных испытаний, ливерморское лобби организовало — это цитата из калифорнийских газет — «закулисную кампанию бюрократической войны» против соглашения. Сегодня Ливермор поет аллилуйю «звездным войнам». И понятно, почему. Бывший директор и нынешний консультант лаборатории Эдвард Теллер был, как известно, тем человеком, кто подбросил рейгановской администрации идею «космического щита».
Многие из моих собеседников хорошо знакомы кое с кем из молодых ученых, работающих в Ливерморе. Интересны психологические эскизы этих служителей ядерного Марса.'
— Их можно разделить на три типа,— рассказывали мне. Первый—так называемые «страусы». Эти обманывают себя мыслью, будто делают «чистую науку». И ныряют головой в песок, когда речь заходит о моральных аспектах работы над оружием массового уничтожения. Второй тип — антисоветчики. Кстати говоря, вступительные экзамены в Ливермор включают в себя такую дисциплину, как антисоветизм. И третьи — это действительно мыслящие люди. Те, кого сейчас терзают сомнения: надо ли Ливермору втягиваться в программу «звездных войн»?
— А что говорят эти третьи? — поинтересовался я.
— Взять, скажем, физика Питера Хэгелстайна. Двадцать девять лет, блестящий ум, один из создателей рентгеновского лазера, этого компонента СОИ. Так вот Питер говорил: «Космическая защита не сможет спасти города от уничтожения. Даже если нам удастся создать смертоносные лучи, способные поражать ракеты противника, энное число ракет все равно прорвется. Поэтому СОИ — это во многом «белый слон»...» [В сентябре 1986 г. Питер Хэгелстайн подал в отставку со своей должности в Ливерморе в знак протеста против СОИ.]
Приобрести трезвый взгляд на вещи физику помог, как рассказали мне, шумный скандал с испытанием рентгеновского лазера. В качестве источника энергии там используется ядерный взрыв. Как только его произвели, Джордж Миллер, заместитель директора Ливерморской лаборатории, тут же доложил в Вашингтоне: «Успех! Несомненный успех!» Оказалось же, что Миллер уже тогда знал: неисправная измерительная аппаратура исказила результаты эксперимента.
— Научную объективность принесли в жертву очковтирательству,— прокомментировал эту историю Боб Гоулд.— И знаете, почему? Ливермор спешил получить 30 миллионов на следующий взрыв. Гребут из той же бочки с салом...
Разговор в центре затянулся за полночь. Казалось, я слышу не молодые голоса энтузиастов мирных дел, а саму совесть Америки. С идеей загаженного военными базами космоса ей никогда не ужиться.
...Вернувшись из Сан-Франциско в Нью-Йорк, я вскоре попал на Бродвей, на актерскую читку пьесы Фрэнка Мэнли «Жуткий дождь».
Пьеса любопытная. Она хирургически точно вскрывает нарыв обывательского мировоззрения, препарирует многие мифы, преследующие американца от колыбели до могильной плиты. После встречи с Калифорнией странно резанул ухо вот этот монолог Олетты Крюз, главного персонажа драмы, жестокой, но несчастной старухи, коротающей дни в прицепном автовагончике:
— У них там, в Калифорнии, никаких ограничений на пособие по старости. Они там тебе положат такие деньги, что живешь король королем. Не то, что здесь. В Калифорнии о тебе заботятся. Нужно только выбраться отсюда. Купил билет в Калифорнию, значит, купил билет в рай...
Нет, миссис Крюз, ошибаетесь. Давно нет рая в Калифорнии. Не сыскать его и в Сан-Франциско, городе контрастов и борьбы за человеческое достоинство, за жизнь под мирными звездами.
Так что не спешите с билетом.

9 Тени на камнях
Боже, что мы натворили?
Запись в дневнике пилота Роберта Льюиса после атомной бомбежки Хиросимы
Инструмент для шантажа
Влажную тропическую тишину рвали арии цикад.
Вскоре после полуночи полковник Пол Тиббетс привел экипаж в барак, служивший сразу и для летного инструктажа, и для общения с Всевышним.
Лютеранский священник попросил всех склонить головы.
— Мы молим тебя, о, боже, не обойти своей милостью тех, кто дерзнул одолеть высоты небес твоих,— певуче запричитал он.— Одолеть, будучи вооруженными мощью твоею, господи!
Из двенадцати членов экипажа только Тиббетс наверняка знал, чем именно вооружен бомбардировщик В-29.
Полковнику было также ясно: жизнь и смерть — не всегда в руках божьих. Об этом напоминала небольшая металлическая коробка, холодившая ногу сквозь карман летного комбинезона. Там хранилось 12 капсул с цианидом.
Если господу не удастся обеспечить успех «специальной бомбардировочной миссии № 13» и самолет потерпит аварию, Тиббетс должен предложить экипажу не очень библейский выбор: яд или пулю в лоб.
Час спустя, перед вылетом, закусили омлетом с сосисками. Потом вышли на летное поле... и обомлели. Их родной бомбардировщик, их «Энола Гей» — так Тиббетс любовно окрестил самолет именем своей матери — искрился в лучах киношных юпитеров. Вокруг громоздились треноги, кинокамеры, роилась толпа газетных фоторепортеров. Командование явно запасалось картинками для истории.
— Эй ты! — крикнул фотограф одному из членов экипажа.—Ты ведь прославишься! Встань-ка вот сюда и улыбнись!
Тот послушно повиновался. Попутно сострил, что все это похоже на открытие нового универсама.
В 2.45 ночи «Энола Гей» тяжело оторвался от коралловой взлетной полосы острова Тиниан в Тихом океане и взял курс на северо-запад.
В 6.30 утра лейтенант Норрис Джеппсон спустился в трюм бомбардировщика. Подсвечивая себе фонариком, он вывинтил из большого грушевидного предмета со стальным хвостовым оперением три зеленые пробки. Затем заменил их на красные.
Последняя электрическая цепь замкнулась. Пятитонная груша с ласковым прозвищем «Малыш» была готова к невообразимому преступлению против человечества. Его никогда не забудет и не простит мир. Через час-другой цивилизация должна была увидеть репетицию своего конца — немыслимого и все-таки возможного.
Экипаж обуял приступ бездумной, ковбойской удали.
Боб Кэрон, пулеметчик заднего обзора, крикнул Тиббетсу:
— Эй, полковник, мы что, щелкаем сегодня атомы, как орешки?!
— Почти попал в точку, Боб,— откликнулся тот.
И склонившись к селектору, объявил по всем отсекам тайну «специальной миссии № 13», именовавшейся также в шифровках операцией «Сентерборд»:
— Мы несем первую в мире атомную бомбу!
Кто-то свистнул. Кто-то смачно выругался.
Тиббетс предупредил, что вблизи цели будут запущены магнитофоны.
— Запись для истории, парни! Так что следите за своими выражениями...
Никто не знал, что истории особенно помогать не надо. Она сама зарегистрирует трагедию человеческими тенями, навечно впечатанными в камни.
В 8.05 самолеты сопровождения радировали погоду в районе бомбометания и отстали.
В 8.08 Д. Парсонс, военный физик, вошел в кабину пилота и остановился за спиной Тиббетса. Внизу в прорехе облаков, как ладонь какого-то фантастического существа, выплыла река Ота с семью пальцами-притоками.
— Это Хиросима,— сказал Тиббетс в селектор. И Парсонсу сухо, по инструкции:
— Вы согласны, что это и есть наша мишень?
— Да.
— Заходим на бомбометание,— объявил Тиббетс.— Всем надеть защитные очки.
Через мгновение бомбардир Том Фереби поймал в окуляре главный ориентир—Т-образный мост и, взяв на себя управление, повел «Энолу Гей» к цели.
Бомбовой люк распахнулся автоматически. Под ногами сквозь стеклянный фонарь Фереби увидел, как «Малыш» плашмя провалился вниз.
— Бомба пошла!—крикнул он.
Было 8 часов 15 минут 17 секунд 6 августа 1945 года.
Миг, когда взорвалась последняя надежда, что раскрепощенная мощь атома никогда не будет использована для человекоубийства. Ядерный меч в обличье грушевидного «Малыша» ринулся вниз на еще утопавший в утренней мгле портовый город. Меч с клеймом «Сделано в США».
Один мой американский друг, чуткая душа, остро переживающий ошибки и проступки верхов США, как-то сказал мне: «Почему мы говорим о ядерном оружии первого удара? Третий удар! После Хиросимы и Нагасаки — для США это третий удар. Обращаясь к нашей администрации, мир вправе требовать:
«Не разрабатывайте ракеты третьего удара!»
«Ответьте на отказ СССР от первого ядерного удара своим обязательством не наносить третий ядерный удар!»
Настоящий, а не ура-патриот, родившийся вскоре после того, как остыл пепел японских городов, мой друг убежден: в летописях землян Соединенные Штаты навсегда останутся первой и, скорее всего, единственной страной, которая практически опробовала на роде людском ядерное оружие.
А происходило это, в общем, с размеренной обыденностью. Исполнители волновались не больше мясника, разделывающего тушу на бифштексы.
Когда облегченный на пять тонн В-29 прыгнул вверх.
Тиббетс заложил его в крутой, на 158 градусов правый вираж. Взрыватель бомбы был рассчитан на запаздывание в сорок три секунды. Досчитав до тридцати пяти, полковник не выдержал:
— Ну как. Боб, видно там что-нибудь?—поинтересовался он по селектору у пулеметчика Кэрона.
— Никак нет, сэр.
Джеппсон, тот что привел «Малыша» в боевую готовность, вел свой отсчет. На сорок третьей секунде подумал: «Осечка! Сбросили болванку!»
В этот миг ослепительное сияние ворвалось в кабину, и Кэрон увидел чудовищную шарообразную массу воздуха, метнувшуюся вверх, к самолету. «Как будто кольцо оторвалось от какой-то планеты и ринулось на нас!» — вспомнит он позднее.
Бомбардировщик подбросило. Потом отраженная волна ударила второй раз.
Пока Хиросима исчезала в пелене гари, Кэрон диктовал на магнитофон:
— Столб дыма... Поднимается быстро! У него огненно-красная оболочка! Повсюду пожары, распространяются пожары!.. Очень много пожаров, не сосчитать. Вот она, форма в виде гриба, о которой предупреждал капитан Парсонс!..
Второй пилот, Роберт Льюис, хлопал Тиббетса по плечу:
— Посмотри-ка туда! Вон туда взгляни!
Фереби, бомбардир, не утихал, все беспокоился вслух, не повлияет ли радиация на мужские способности.
Тиббетс выдавил в микрофон.
— Потрясен! Разрушений больше, чем я воображал!
И тут же радировал открытым текстом базе на острове Тиниан: «Мишень отбомбили визуально с хорошими результатами».
Внизу испарялись, обугливались, покрывались чудовищными ожогами, впитывали смертоносную радиацию живые человеческие тела. Искалеченные гены запоминали неописуемую жестокость этого мига, чтобы передать проклятие будущим поколениям. «Хорошие результаты»...
И только Льюис, второй пилот, вдруг склонился и замер над своим дневником. Там осталась короткая запись:
«Боже, что мы натворили?»
Но не знак восклицания — знак вопроса.
... Читаю главные американские газеты — и вроде бы не было сороковой годовщины атомной бомбардировки Соединенными Штатами Хиросимы и Нагасаки. Никто из официальных чинов не собрался поклониться оплавленным камням этих городов, как, скажем, крестам Битбурга.
Трубили в праздничные трубы по поводу 40-летия испытания в пустыне Аламогордо американской атомной бомбы. Пели аллилуйю ядерному оружию вообще: вот, мол, благодаря его существованию сорок лет люди не видели большой войны. А что люди увидели и испытали в эпицентре ядерной смерти — об этом казенная Америка хотела бы забыть.
Только в «Нью-Йорк таймс» мелькнуло: «Через 24 дня после эксперимента «Троица» (взрыв в Аламогордо.—В С.) две атомные бомбы, по сегодняшним меркам маленькие и примитивные, разрушили два японских города, убив 106 тысяч человек...»
Звоню в информационный центр Японии при ООН.
Там тоже поражены:
— Какие 106 тысяч? По самым скромным подсчетам, за две первые недели хиросимская бомба унесла 140 тысяч жизней, а та, что сбросили на Нагасаки,—70 тысяч. Число раненых перехлестнуло сто тысяч. Четыреста тысяч до сих пор страдают от последствий радиации. Вообще же число загубленных душ не счесть, и вы сами знаете, почему. Проклятье лучевой болезни не кончается со смертью...
Вместе с тем мрачный юбилей вызвал острый интерес к документальным расследованиям, к архивным раскопкам. Активисты антивоенного движения вытащили из государственных сейфов на белый свет новые, только что рассекреченные материалы. По разным причинам осмелели американские режиссеры и исполнители трагедии. Многим из них ясно: Хиросима — не просто событие вчерашнего дня. Это упреждающий знак на дороге в завтра.
В год сорокалетия Великой Победы многих американцев прежде всего интересовало: какое отношение имела атомная казнь 6 и 9 августа к этой победе?
Новые данные подтверждают: никакого. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки диктовались отнюдь не военной необходимостью. Уже победы Красной Армии под Сталинградом и на полях Восточной Пруссии необратимо надломили волю Японии. Она агонизировала. По другую сторону океана в этом не было никаких сомнений.
Авторы секретного «Исследования стратегических бомбардировок, произведенных Соединенными Штатами» заключили в 1946 году:
«Япония сдалась бы... даже если атомные бомбы не были бы сброшены».
Еще раньше, в мае—июле 1945 года, Ральф Бард, заместитель военного министра США по делам флота пришел к выводу, четко высказанному позднее в заголовке его статьи: «В действительности война была выиграна до того, как мы воспользовались А-бомбой».
Тогда, весной 45-го, Бард заседал в так называемом «Временном комитете С-1» — сверхсекретном органе, координировавшем военную и научную подготовку к боевому применению ядерного оружия. День бессмысленной жестокости неумолимо приближался. Растерянность высшего военного чина и его отвращение к происходящему дошли до того, что он подал в отставку и из «С-1», и со своего министерского поста.
Задуманное варварство, наивно протестовал Бард в своем меморандуме, «несовместимо с позицией Соединенных Штатов как великой гуманной нации и с приверженностью нашего народа к правилам честной игры».
Какая уж тут честная игра! В канун определения послевоенного устройства Европы Вашингтон остро нуждался в инструменте международного шантажа. Его-то и создавали в бараках национальной лаборатории в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, где группа физиков, в основном иммигрантов, лихорадочно работала над таинственным Манхэттенским проектом.
Боевой атом сразу запрягли в политику.
В своей книге «День первый» историк Питер Уайден восстанавливает кое-какие любопытные детали тех дней. И одновременно разоблачает теоретиков использования ядерной бомбы в качестве дипломатической дубины.
12 апреля 1945 года. После скоропостижной смерти Ф. Рузвельта на пост президента вступает Г. Трумэн, не имеющий ни малейшего представления о Манхэттенском проекте. Предшественник не обмолвился ему о бомбе ни словом.
В тот же день на первом заседании правительственного кабинета Генри Стимсон, военный министр, решает посвятить президента-новичка в святая святых и рассказывает ему о «взрывчатке почти невероятной мощи».
Трумэн озадачен. Никак не возьмет в толк, о чем речь.
На следующий день намного более откровенные, без экивоков объяснения ему дает Джеймс Бирнс, сенатор и давний приятель.
— Бомба способна взорвать весь мир!—восторженно сообщает он.
Питер Уайден так комментирует взаимопонимание, возникшее в те минуты между президентом и его визирем:
«Он (Бирнс) в общем был рад тому, что говорил. Он почуял дипломатический потенциал оружия для шантажа.
Бомба придется очень кстати, когда Соединенные Штаты пожелают оказать нажим на всех вокруг. Трумэн запомнил его слова; «Это поможет нам занять позиции, когда мы будем диктовать наши условия по окончании войны». Бирнс оказывал в те дни серьезное влияние на одинокого президента, особенно в отношении русских...»
Идея шантажа «всех вокруг» так приглянулась Трумэну, что он тут же назначил Джеймса Бирнса государственным секретарем.
Эра ядерной дипломатии началась.
Тогда и сегодня
Когда через четыре месяца армейский капитан ворвется в кают-кампанию крейсера «Огаста»—президент возвращался с Потсдамской конференции — с шифровкой «Большая бомба сброшена на Хиросиму», Трумэн взволнованно пожмет ему руку:
— Это величайший день в истории!
Бывший хозяин обанкротившегося галантерейного магазина, политик с психологией дремучей южноамериканской глубинки, Трумэн никогда не отягощал себя моральными сомнениями насчет удара атомной бомбы по людям. Он не раз признавал, что решение далось ему на редкость легко.
Если бы история повторилась, он сделал бы то же самое. Об этом Трумэн лично написал в 1958 году Хиросимскому городскому совету и дал указание секретарю: «Давайте пошлем авиапочтой».
Хорошо еще, что не бомбардировщиком В-29.
Но почему Хиросима? Почему Нагасаки?
Новые рассекреченные материалы архивов убеждают: при выборе целей военно-политическая верхушка США руководствовалась все теми же соображениями—запугать мировое сообщество, прежде всего Советский Союз, принудить его к «покладистости» при обсуждении проблем послевоенного устройства Европы и мира.
Число возможных жертв, людские страдания, ответственность перед историей, гуманизм — все это осталось где-то за кулисами трагического шоу, главной целью которого был шантаж.
Созданный в Вашингтоне весной 1945-го тайный «Комитет по определению мишеней» поставил такое условие для первого в истории ядерного удара:
Он «должен быть достаточно зрелищным, чтобы значение оружия получило международное признание, когда пресс-материалы о нем поступят в обращение». Вот почему старт «Энолы Гей» с тихоокеанской базы был обставлен с таким голливудским шиком. Из гибели десятков тысяч людей мастерили пропагандистский киноролик.
. Руководителям Манхэттенского проекта также не терпелось использовать гражданское население Японии в качестве морских свинок. С бомбой еще было много неясного. На заседании «Комитета по определению мишеней» 27 апреля Уильям Пенни, британский эксперт по взрывчатым веществам, выписанный по такому случаю из-за океана, оценил вероятную мощность взрыва «Малыша» в пять килотонн тринитротолуола. [В действительности —13,5 килотонны.]
Западной науке надо было это уточнить на живых людях.
С учетом этих тонких материй генерал Лесли Гровс, военный опекун Манхэттенского проекта, наставлял пилота Пола Тиббетса:
— Чтобы со всех сторон хорошенько оценить эффект бомбы, мишень не должна быть повреждена предшествующими воздушными атаками...
Гровс также настаивал на таких размерах мишени, когда бы все разрушения аккуратно уложились в черте города. В этом случае сверху предстала бы идеальная схемка, позволяющая определить реальную мощность «Малыша».
На том же заседании 27 апреля пришли к выводу: таким требованиям отвечают 17 японских городов, в том числе Иокогама, Хиросима, Нагасаки и Киото.
Первым на ядерное заклание прочили Киото. Почему? Зигзаг «научной» мысли любопытнейший: в Киото, мол, проживает главным образом японская интеллигенция. Ну и что? А то, что протесты тех, кто выживет, будут наиболее красноречивыми и, значит, произведут наибольшее впечатление на международную общественность. Разве не изящно?
Киото спас Г. Стимсон. В свою бытность генеральным губернатором Филиппин военный министр, оказывается, заезжал в Киото и остался под большим впечатлением от его древних памятников.
— Я не дам согласие на этот город! — вскричал жалостливый ценитель культуры.
Поэтому спалили Хиросиму с ее соборами, музеями и картинной галереей.
Правда, несколько раньше, 30 июля, возникла маленькая загвоздка. С Гуама радировали:
«Разведывательные сообщения, не подтвержденные фотоснимками, указывают на существование в Нагасаки лагеря американских военнопленных. Расположен в одной миле к северу от центра города. Повлияет ли это на выбор мишени для операции «Сентерборд»? Просьба ответить немедленно».
Стало известно и об американских военнопленных в Хиросиме.
Генерал Гровс показал шифровки военному министру. Договорились действовать так, будто Генри Стимсон их не видел.
Правительство США так и не сообщило семьям этих военнопленных, что их отцы, братья, мужья погибли от родной, американской А-бомбы.
Один из журналистов «Нью-Йорк таймс» написал в 1945 году о бомбе, сброшенной на Нагасаки:
«Это олицетворение красоты, которую хочется созерцать».
Сорок лет спустя та же «Нью-Йорк таймс» заодно с прочими американскими средствами массовой информации еще не устала петь гимны технологии ядерного человекоубийства. Годовщину бомбежки подменили развеселым юбилеем национальной лаборатории в Лос-Аламосе, этой колыбели мегасмерти.
Вдруг открыли для туристов то место в пустыне Аламогордо, где впервые полыхнула ядерная заря. Вообще-то, оно окружено теперь со всех сторон территорией пентагоновского ракетного полигона—так сказать, логичная преемственность.
Но генерал-майор вывесил на заборе из колючей проволоки бумагу:
«В этом году я сделал исключение в честь самого важного события в истории человечества...»
И туристы, зеваки, ура-патриоты хлынули к заросшему кустарником, приютившему выводки полевых мышей и тушканчиков кратеру. В раскаленной шовинистической атмосфере страны пустыня Аламогордо стала как бы новой ядерной меккой. За день пребывания там получаешь 10-кратную по сравнению с повседневной дозу радиации. Ну, и черт с ней! Зато потоптался личными подошвами там, где изобрели самый надежный гарант мира!
У других—другие думы. В те дни там отслужила негромкий молебен группа антивоенных активистов. Она привезла с собой урны с землей Хиросимы и Нагасаки.
— Вопрос в том, такой ли уж это прочный мир?—возвел глаза к небу святой отец Лейтон Зиммер.— Мыслю: люди в Европе и повсюду могут возроптать: «Найди, господи, какой-нибудь иной способ сохранить мир, потому что мир под угрозой смерти — еще не мир...»
Страстные слова проповеди, конечно, не долетели до Лос-Аламоса, раскинувшегося в двухстах милях к северу. А если бы долетели — не нашлось бы слушателей. Никогда еще здесь не делали ядерную смерть так лихорадочно, так упоенно, так масштабно, с такими затратами денежных и мозговых ресурсов, как сегодня.
Цель знакомая: сломать равновесие сил между двумя социально-политическими системами, замахнуться новомодной ядерной дубинкой.
Кое-кто из бывших участников Манхэттенского проекта отправился сюда в ностальгический вояж и едва перенес потрясение. Лос-Аламос разбух со зловещей стремительностью ядерного гриба. Вместо дощатых бараков — 30 квадратных миль современнейших лабораторий. Вместо размытых ливнями земляных дорог — четырехполосные магистрали.
Реклама на уличных щитах зазывает: «Здешняя недвижимость—самое разумное вложение капитала!».
И вкладывают—куда уж больше. 20 тысяч ученых, инженеров, технического персонала — пресса ласково кличет их «ядерными энтузиастами»—перемалывают здесь 350 миллионов долларов в год в смерть, килосмерть, мегасмерть, мегамегасмерть...
Уильям Брод, солидный научный обозреватель, неосторожно хвастнул в те дни: в Лос-Аламосе работают над совершенствованием и созданием 14 видов ядерного оружия.
Четырнадцати! Ядерное меню приближается к ресторанному.
Как, например, насчет «антиматериальной бомбы», использующей принцип взаимодействия между материей и антиматерией? «После ее совершенствования антиматериальная бомба может стать чрезвычайно небольшой по размерам, но с невообразимой мощью».
Или почему бы не предпочесть «мозговую бомбу»? «Подмечено, что облучение мощной длинноволновой радиацией приводит человека в состояние смятения и дезориентации...»
Главное фирменное блюдо сегодняшнего Лос-Аламоса — это, конечно, техническое воплощение президентской идеи «звездных войн».
— Ну, как? Какое впечатление?—добивался репортер Си-би-эс у лауреата Нобелевской премии Изидора Раби, патриарха Манхэттенского проекта, когда 85-летний ученый закончил осмотр когда-то родных мест.
— Мерзость!—отрезал тот.— Мы должны были похоронить все эти дела по крайней мере лет тридцать назад. Огорчен, что лаборатория все еще существует.
Не просто существует. Не просто множит технику ядерного уничтожения. Лос-Аламос играет сегодня также постыдную роль пропагандистского центра, где юную Америку учат естественности существования в обнимку с бомбой. Учат любить бомбу.
Тысячи американских ребят проходят каждый год гуськом через залы так называемого «научного музея», где детское сознание бомбардируется образами, текстами и просто-напросто практическими навыками ядерного убийства.
На постаментах торжественно выставлены точные копии «Малыша» и «Толстяка» — бомб, разрушивших Хиросиму и Нагасаки. Вокруг в витринах — воинственные документы той поры. Ребенок может поиграть с манипулятором, перемещающим плутониевые стержни. Может взвесить на ладошках полусферы взрывчатки, которая используется в ядерных бомбах для сжатия и детонации ядерного заряда.
Еще один экспонат настолько экзотичен, что я вынужден описать его с помощью цитаты из музейного каталога. Иначе читатель вряд ли мне поверит:
«Дотрагиваясь до видеоэкранов сопряженных компьютеров, посетители могут получить урок, как надо выбирать подходящие структурные материалы для изготовления ракет и даже как конструировать боеголовки межконтинентальных баллистических ракет».
Бесчеловечность—с молоком матери.
В то же время правительство США до сих пор не рассекретило 95 тысяч футов цветной кинопленки, отснятой операторами ВВС США в Хиросиме и Нагасаки. Даниэль Макговерн, военный архивариус, обнаружил факты, подтверждающие существование фильма. Однако усилия американской общественности получить копию этих киноматериалов до сих пор наталкиваются на стену.
Логика простая: забыть Хиросиму, но восславить бомбу, как некое абстрактное достижение человеческого гения.
Между прочим, сами создатели «Малыша» и «Толстяка», те, кого подстегивали казенным патриотизмом в бараках Лос-Аламосской национальной лаборатории в 1943—1945 годах,— эти ученые в большинстве своем испытывают сегодня отвращение и к такой логике, и к стараниям администрации задать темп ядерной гонке.
Так, Виктор Вайскопф, один из соратникова Р. Оппенгеймера, назвал этот американский политический феномен «острым случаем коллективной умственной болезни».
Многие ветераны Манхэттенского проекта, ныне члены Национальной академии США, стали активистами влиятельной общественной организации — «Союза обеспокоенных ученых». Она выступает за ограничение ядерных вооружений В 40-ю годовщину хиросимской трагедии их больше всего беспокоило вот что: как много все-таки общего между первой ядерной бомбардировкой и идеей милитаризации космоса.
Тогда и сегодня — одержимость правящей верхушки США мечтой подмять Советский Союз с помощью сверхоружия.
Тогда и сегодня — скоротечный и единственный шанс одуматься, остановиться, удержаться от соскальзывания в колею соперничества в области новой боевой технологии. Тогда США пренебрегли этим шансом на горе человечеству. А сегодня?
Наконец, совсем уже горькая ирония судьбы — в обоих случаях Америка жадно внимала и внимает подстрекательским речам Эдварда Теллера, генерала от науки, одного из творцов атомной бомбы, изобретателя водородной и крестного отца рейгановской «стратегической оборонной инициативы».
Это тот самый Теллер, которому, говорят, принадлежат слова: «Сколько бы у нас ни было ядерных бомб, их все равно недостаточно для этих чертовых русских!»
Кстати, сам он и подметил схожесть момента. Сразу после объявления Рейганом идеи «звездных войн» Теллер признал в «Нью-Йорк таймс», что все это напоминает ему ’«другой поворотный пункт в мировой истории». Но не добавил, что тогда США повернули историю в сторону радиоактивных пепелищ японских городов.
Америка Эдварда Теллера словно ослепла от хиросимской ядерной зари. Ослепла охотно, восторженно и упивается сейчас своей неспособностью заглянуть в будущее.
Но Америкаего более вдумчивых коллег внимательно вчитывается в слова советского обращения к «Союзу обеспокоенных ученых»: «Сейчас, как никогда, нужна политика дальновидная, основанная на понимании реальностей и тех опасностей, с которыми мы неизбежно встретимся завтра, если сегодня те, кто может и должен принять единственно верное решение, уклонятся от лежащей на них ответственности».
В сорокалетнюю годовщину атомного распятия Хиросимы и Нагасаки многие американцы ощущали эту ответственность почти физически.
И один не перенес ее тяжести. В пригороде Лос-Анджелеса, в скромном особнячке нашли утром уже остывший труп. Шестидесятилетний Пол Брегмэн повесился за пять дней до слишком памятной для него даты — 9 августа.
Подъехавший вместе с полицией репортер сразу узнал самоубийцу. «Брегмэн, Брегмэн... Да это же штурман самолета, бомбившего Нагасаки! То-то ходили слухи, будто его гложет совесть...»
Человек не выдержал своей доли той неискупной вины. Брегмэна убило бремя — нравственное, историческое...
Других оно побуждает к политическим действиям, к протестам.
У ворот сорока ядерных центров, производящих оружие, творилось в те дни то, что здесь называют «актами гражданского неповиновения». В Техасе, у завода ядерных боеголовок в Амарилло, не смолкал грохот гонга. Ударов было столько, сколько жизней загубили тогда «Малыш» и «Толстяк» — по тревожному, медленно замирающему рокотанию на каждую душу.
А на следующее утро Нью-Йорк и еще несколько американских городов проснулись... и не сразу поняли, что происходит. Тротуары, камни набережных, лестницы парков устлали за ночь обведенные белой краской человеческие тени.
Словно были люди — и нет их.
Словно совершено массовое убийство.
Элан Гассоу, художник и автор идеи, объяснил мне, что эти рисунки символизируют тени жертв Хиросимы.
Те, что остались кое-где на камнях города-страдальца.
Те, о которых человечеству опасно забывать.
Расстрел донкихота
Утро выдалось теплым. К американской столице уже подбиралась праздничность рождественских каникул.
Группки туристов бродили вокруг памятника Джорджу Вашингтону. Похрустывали воздушной кукурузой, задирали головы, чтобы увидеть то место, где 169-метровая гранитная игла протыкает низкие облака. Белочки подбирали за людьми сладкие крошки.
Идиллию разрушил белый грузовичок-фургон. Скрежет тормозов, хлопок дверцы. Из кабины тяжеловато выпрыгивает человек в синем лыжном костюме и мотоциклетном шлеме с затемненным забралом. В руках — какая-то коробка, из которой торчит прут антенны. Нечто вроде передатчика для радиоуправляемых авиамоделей.
Но не у памятника же первому американскому президенту в игрушки играть! Полицейский, охраняющий обелиск, направляется к «лыжнику». Надо сделать замечание.
Тот идет навстречу. Вручает коричневый конверт с рукописным воззванием: «Если кто-либо приблизится ко мне, ответственность за последствия ложится на правительство...»
На верхней губе у полицейского выступает капелька пота До него доходит острота ситуации. Как сказано в воззвании, в белом грузовике — 1000 фунтов динамита. Человек в мотоциклетном шлеме угрожает взорвать памятник Джорджу Вашингтону, если власти не удовлетворят его требования.
Какие? В смятении страж не замечает крупной надписи на грузовике:
«Необходимость №1 —запретить ядерное оружие».
Через несколько минут холм, на котором высится памятник, оцеплен полицией. Человек в шлеме взят в перекрестия оптических прицелов. А в эфир по десяткам телевизионных каналов хлынул поток прямых репортажей об одиночке, захватившем в качестве заложника... гранитную колонну.
Я смотрел эти репортажи целый день и не переставал удивляться. Полиция действовала так, будто перед ней опаснейший уголовный преступник. Комментаторы вели передачи, будто перед ними матерый вымогатель-террорист. Антивоенный характер протеста замалчивался.
Все катилось по хорошо смазанной колее. Захватывают самолеты. Захватывают миллионеров. Теперь вот захватили памятник. Знакомая история. Главное — принять все меры безопасности. Не выводить террориста из себя. Тянуть время, ждать, ждать, ждать...
Полиция явно нагоняла ужас на притихший Вашингтон. В ее поведении было что-то лживое. Даже если в грузовичке таились 1000 фунтов, то есть 450 килограммов динамита, взрыв мог оставить на гранитной махине в худшем случае выбоину. Городу тем более ничего не угрожало.
Но уже к полудню эвакуировали двадцать тысяч вашингтонцев. Конторы и магазины закрыли в приказном порядке. Телевизионные комментаторы скинули пиджаки и ослабили узлы галстуков, чтобы всем своим видом подчеркнуть некую «катастрофичность» положения. Сам президент покинул южную половину Белого дома — как бы не оглушило взрывной волной!
Это была настоящая паника. С той лишь разницей, что ее создали искусственно.
Бывает, в спешке поставишь машину не там, где положено, а к тебе уже шагает полицейский: «Мистер Симонов, лучше вам отсюда отъехать». Естественно, он меня не знает в лицо. Просто связался по рации с центральным компьютером, и тот мгновенно выдал ему по номерному знаку фамилию.
Такую же процедуру, конечно, проделали и в то утро в Вашингтоне. Городская полиция, полиция парка, ФБР, секретная служба Белого дома и прочие ведомства безопасности с самого начала знали, кому принадлежит грузовичок. Норману Мейеру, 66 лет, служащему гостиницы в Майами-Бич.
Последние годы Мейер уже не пылесосил гостиничные коридоры. Все свое время, все скромные накопления отдавал борьбе с ядерной опасностью. После выпадения радиоактивной пыли пылесосы не понадобятся, считал он.
Мейер спешил. Его преследовало ощущение, что антивоенные группы и организации вроде «Граунд зироу»с«Кампании за замораживание ядерных вооружений», СЕЙН измеряют истекающее время годами. А надо месяцами. Днями. А может быть, последними крупинками песочных часов.
Мейер сам был побочным продуктом гонки вооружений. Человеком, чья психика искалечена фантастическими цифрами военного бюджета, государственной одержимостью новыми системами человекоубийства, милитаристскими кличами, доносящимися из Белого дома. Таких американцев сегодня тысячи. Они бегут в горы, обживают пещеры в лесах, строят бетонированные убежища под личным гаражом. Их называют «сервайвалистс»—люди, которые хотят выжить.
Выжить через бегство от опасности.
В отличие от них Мейер не бежал — он сопротивлялся. В одиночку, келейно, не примыкая ни к каким организациям. Конечно, в таком сопротивлении было меньше надежды, чем отчаяния. Но Мейером двигало все-таки мужество, а не страх.
В 1979 году его дважды арестовывали за то, что раздавал листовки в студенческих городках Флориды.
«Мы — обреченная цивилизация, которая ежедневно балансирует на грани уничтожения!—предупреждали эти квадратики кремовой оберточной бумаги.— Запретим ядерное оружие или приготовимся к шикарному концу света!»
Пожилой человек, он спешил спасти планету для более молодых. Американский донкихот, вознамерившийся в одиночку свернуть боеголовки всем баллистическим ракетам Пентагона.
Полиции было достаточно извлечь всю эту информацию из памяти своего компьютера, чтобы понять: Мейер предан идее разоружения. Руководители облавы на человека в лыжном костюме, я убежден, отдавали себе отчет, что имеют дело с чисто политической манифестацией.
Но такая политика для них опаснее динамита. Вот почему из протеста одиночки продолжали лепить террористический акт. Вот почему над иглой обелиска нависли вертолеты. А полицейские снайперы поделили между собой каждый квадратный сантиметр его мотоциклетного шлема.
Через десять часов, когда стемнело, хорошо рассчитанную панику довели до высшей точки. На экране телевизора — некий полицейский чин. Его осаждают репортеры:
— Так есть взрывчатка в грузовике или нет? Удалось что-нибудь установить?
Самоуверенный, энергичный кивок:
— Есть! Без сомнения есть. Собаки чуят динамит. Преступник крайне опасен...
А Мейер смирно сидит у подножия памятника, сжимая в руках коробку с торчащим из нее прутиком, и вглядывается куда-то в даль. Мог ли он видеть через затемненный щиток своего шлема купол Капитолия? Не знаю. Впрочем, это неважно. Он знал, что там, в этом величественном здании, палата представителей принимала как раз в тот день один из самых гигантских военных бюджетов за всю послевоенную историю Соединенных Штатов. 231 миллиард долларов. Овеществленная в купюрах заповедь Джорджа Вашингтона, который сказал 8 января 1790 года:
«Быть готовым к войне — один из самых эффективных способов сохранить мир».
Первый президент не родил бы своего афоризма, доживи он до изобретения ядерного оружия. Своей одинокой вахтой у памятника Мейер опровергал тех, кто авантюристически переносит двухсотлетнюю мудрость в век баллистических ракет.
Мейер сидел у гранитной иглы и слушал вой полицейских сирен.
Он, конечно, не слышал размеренного голоса президентского советника по научным вопросам д-ра Джорджа Кейворта Третьего. В эти самые минуты тот объяснял сенату смысл нового любопытного изобретения Пентагона под названием «фратрицид». Это латинское слово означает «братоубийство».
Видите ли, наши новые ракеты «МХ» предполагается разместить в штате Вайоминг таким образом, чтобы атакующие ракеты противника уничтожали не цель, а друг друга. Как брат брата. То есть произойдет этот самый «фратрицид». Ну не великолепно ли придумано?
Ученый советник не объяснил в тот день, чем кончится «фратрицид» для жителей штата Вайоминг, для всей живой Америки, ее зверей, птиц, лесов.
А человек в мотоциклетном шлеме прекрасно знал чем — геноцидом. Он так и сказал об этом корреспонденту агентства Ассошиэйтед Пресс Стиву Комароу, когда полиция направила того выяснить требования «террориста».
Мейер сказал Комароу еще вот что:
— Это вы виноваты — пресса, телевидение! Делаете вид, будто нашей планете не грозит ядерная бомба. То ли сговорились с кем, то ли еще почему. Утаиваете информацию о неконтролируемой обстановке, а сами вгоняете в нее мир...
Невеселая ирония состояла в том, что здешние средства массовой информации пытались утаить правду даже о требованиях Мейера. Телевидение ахало по поводу призрачного ящика динамита, но молчало насчет гор ядерной взрывчатки, к уничтожению которых Мейер призывал своим отчаянным поступком.
Тот же Комароу позднее написал, будто требования его собеседника были «туманными». «Я пытался, но так и не смог их прояснить».
Во время репортажа о вашингтонской драме по девятому каналу телевидения корреспондент едва успел сказать: «Единственное его требование, которое нам известно...» — как чья-то невидимая рука прервала передачу и вставила кусок из модного комического сериала.
А ведь у человека в мотоциклетном шлеме были здравые идеи. Они не могли осенить преступника, решившего взорвать красу и гордость Вашингтона.
Такие идеи могли бы сами взорвать остатки доверия к милитаристской политике администрации. Поэтому их и постарались утопить в суете с вертолетами, полицейскими снайперами и собаками, которые будто бы учуяли динамит.
На самом деле полиция учуяла крамолу, имя которой — борьба за разоружение.
Вот чего хотел Мейер:
Начать общенациональный диалог на тему о ядерной опасности.
Обязать прессу посвящать больше половины всех своих материалов обсуждению проблем ограничения и сокращения ядерных вооружений.
Ввести в школах такую дисциплину, которая бы учила юных отстаивать мир.
Издать многомиллионным тиражом книгу Джонатана Шелла «Судьба земли», повествующую о последствиях ядерной войны, и вручить ее каждому взрослому гражданину Соединенных Штатов.
У Мейера были также другие идеи. «Встретимся завтра»,— пообещал он Комароу.
Завтра у донкихота отняли. Эта сцена передавалась по телевидению «живьем», и она записана у меня на видеомагнитофоне. Только смотреть ее еще раз нет сил.
10.45 вечера. Мейер спокойно залезает в свой грузовичок и медленно катит прочь от монумента. И тогда без предупреждения, без попыток остановить машину—шквал выстрелов.
Как в хорошей мультипликационной ленте грузовичок смешно приседает на простреленных шинах, переворачивается и падает на крышу. Полицейские выбивают ногами осколки ветрового стекла. Выволакивают бездыханное тело. Победно воют сирены...
Никакого динамита в грузовичке, конечно, не оказалось. Там был страстный, нетерпеливый, отчаянный порыв к миру без ядерного оружия.
Мятеж одиночки против официального безумия.
Мятежника расстреляли. Под сенью обелиска отцу— основателю свободолюбивой нации...
Репортаж с 42-й улицы
Субботнее утро в Нью-Йорке. В ранние часы здесь почти безлюдно.
Иду по 8-й авеню. На пересечении с 42-й улицей кричит своей архитектурой здание автовокзала и дирекции порта. Вместо обычных стен — перекрестья балок бурого цвета. Дом как будто сколочен из гигантских букв «X».
Что-то здесь происходит. Необычно много полицейских. Расставляют вдоль улицы синие деревянные барьеры заграждений. Потрескивают, бормочут пристегнутые к поясам рации.
На углу на промозглом весеннем ветру заговаривает с прохожими, раздает листовки девушка. Рыжие волосы обрамляют лицо пушистым огненным шаром. Поверх футболки мешковатый мужской пиджак. Неужели не холодно?
Интересуюсь, за что или против чего агитирует.
Показывает картинку на листовке:
— А это видите?
Над рисованным силуэтом Нью-Йорка — ядерное облако.
— Вот к чему идет дело, если под боком у города соорудят военно-морскую ядерную базу. Я против! Они против!— девушка кивает в сторону 41-й улицы, где темнеет толпа демонстрантов.— А вы?
Сюзан Уолтерс, так зовут девушку,— активистка «Коалиции за безъядерную гавань Нью-Йорка». Более полусотни антиракетных групп, организаций борцов против ядерной угрозы объединились в эту коалицию, после того как в июле 1983 года пришла весть: Пентагон надумал ввести в нью-йоркскую гавань отряд кораблей с ядерным оружием на борту.
Был город, который из-за обилия соблазнов называют «Большим яблоком». Станет базой, куда приписана ядерная смерть. Семь кораблей будут нести примерно 500 крылатых ракет. По взрывной мощности заряд каждой из них превышает хиросимскую бомбу в десять раз.
Сюзан качает головой:
— Безумцы, одно слово, безумцы... Знаете, сколько аварий случается с кораблями в нашей гавани? В среднем полторы сотни в год! Почти каждый день суда сталкиваются, пропарывают друг другу бока. Портовики молят бога, как бы не произошло чего посерьезнее. Ведь много танкеров с сжиженным газом. А если рванет? Теперь представьте, что рядом окажется эсминец с ядерными боеголовками. Пусть даже они не взорвутся—треснут, расколются...
Мимо идет молодая мать с детской коляской. Машинально берет листовку, кладет в коляску. Ребенок играет желтым, разрисованным листком. Не знает, что речь там идет о его будущем. Дадут ли ему стать взрослым дяди из Пентагона?
Сюзан Уолтерс говорит, что ей стыдно за городской совет Нью-Йорка. Вроде бы не так давно поддержали идею взаимного замораживания ядерных арсеналов СССР и США. А теперь, значит, пошли на попятную?
У Сюзан одна надежда — на члена городского совета Мириам Фридлендер. Та составила и положила на стол перед коллегами резолюцию № 568, запрещающую судам с ядерными боеголовками швартоваться в порту Нью-Йорка. Неизвестно, поддержит ли ее теперь совет. Ему, похоже, льстит идея руководить уже не городом, а военно-морской крепостью.
Сюзан протягивает листовку добротно одетому мужчине. Тот берет ее двумя пальцами, пробегает глазами и демонстративно рвет на части. Этот с ядерной опасностью в полюбовных отношениях. Она, опасность, видать, работает на его банковский счет.
Иду к месту сбора демонстрантов. По пути на глаза попадается вконец продрогший человек. Жадно прихлебывает из картонного стаканчика дымящийся кофе. За стеклами очков смешливые, умные глаза. На груди бирка: «Том Янг. Представитель дирекции порта по связи с прессой».
Он-то мне и нужен. Предъявляю журналистское удостоверение.
— Ну, что ж, мистер советский корреспондент,— Янг греется, прикладывая стаканчик то к носу, то к уху,— не забудьте отметить в своем репортаже, что власти порта не чинили демонстрантам никаких препятствий. Хотят протестовать — пусть протестуют. Только бы не мешали автобусам Тут ведь, знаете, еще автобусный вокзал...
— А что дирекция порта может сказать по существу? Насчет ракетоносцев неподалеку от нью-йоркской статуи Свободы?
— Значит так,—диктует Янг мне в блокнот.— Приписка к гавани отряда военных кораблей — большое экономическое благодеяние для Нью-Йорка. База ВМС — это новые рабочие места — раз. Заказы для городских строительных фирм — два. Кроме того, четыре-пять тысяч семей моряков тоже не помеха. Начнут тратить деньги на еду, на прочее. Опять городу прибыль.
Я бью аргументы Янга фактами, почерпнутыми из листовки. Рабочие места для гражданских лиц если и появятся, то от силы—сотни три. За это городские власти заплатят 20 миллионов долларов — в такую сумму обойдется Нью-Йорку строительство военно-морской базы. Налогами с горожан заплатят. Еще 15 миллионов обещала Пентагону администрация порта. Она сдерет деньги опять-таки с населения в виде повышенных сборов за проезд по платным дорогам и мостам.
Теперь насчет покупательной способности военных моряков. Общеизвестно, что они делают закупки по большей части не в городе, а в собственных закрытых военных лавках. С городом у пришельцев будет один разговор: обеспечьте нам жилье! Уже сегодня для них отрядили несколько зданий, куда хотели поселить престарелых. Десятки тысяч нью-йоркских бездомных, обитателей трущоб Гарлема и Южного Бронкса спасибо не скажут.
А вообще не мелковат ли весь этот экономический спор на фоне открывающейся для Нью-Йорка благоприятной возможности взлететь на воздух? Или стать, как здесь говорят, «подсадной уткой» для ракет возмездия?
Том Янг продолжает улыбаться. Что-то странное есть в этой застывшей, вроде бы не к месту, улыбке.
— Между прочим,— внезапно говорит он,— я служил в американских частях в Европе. Представляю себе, как из-за какого-то выстрела в воздух все может покатиться к войне. А в нашу гавань войдут эсминцы, вооруженные калибром покрупнее...
Я с изумлением понимаю, что Янг—во многом единомышленник тех, кто протестует сегодня у бурого, сложенного из перекрестий здания портовой администрации. По службе человек делает одно, а в душе у него — прямо противоположное.
— Насчет экономики и милитаризма...— Янг мнет в кулаке стаканчик.— Вот я чиновник, причем хорошо оплачиваемый. Но по милости Рейгана жить в Нью-Йорке уже не могу. Не по карману. Переехал далеко за город. На один транспорт уходит больше тысячи долларов в год.
Подходит полицейский, видимо, знакомый Янга.
— А ты что такой радостный?—бросает ему кто-то из толпы.— Когда миллионы на военно-морскую базу выкинут, тебе ведь тоже зарплату обкарнают...
Полицейский не успевает ответить. На сорок вторую улицу неспешно и грозно, как вулканическая лава, накатывается поток демонстрантов. Многие в белых масках смерти. Над толпой плывут сделанные в натуральную величину модели крылатых ракет. Плакаты: «Подвергнуть Рейгана импичменту!», «Сбрасывайте вниз налоги, а не бомбы!», «Никаких ракет в нашей гавани!».
В инвалидной коляске друзья катят парня из французского города Бесагон. Идет студент-англичанин, его, рассказал он мне потом, не раз арестовывали за протесты у американской базы Гринэм-Коммон там, на Британских островах.
У антиядерной солидарности нет границ.
Завыли сирены. Что это?!
Сотни людей вдруг падают на холодный, еще не прогретый весенним солнцем нью-йоркский тротуар. Самая разбитная, знаменитая своими увеселительными заведениями 42-я улица усеяна сейчас телами. Тягостное зрелище. Так может выглядеть весь Нью-Йорк, если ВМС совьет себе ядерное гнездо под боком у города.
Прохожие останавливаются. Автомашины тормозят. Улица замирает. Частичка населения города задумывается на несколько минут о самом серьезном.
Кто-то ничего не понимает. Почему люди повалились на мостовую? Почему мрачный голос читает в мегафон:
— Челси, 75 258.
— Статен-Айленд, 352121.
Это число жертв, объясняют ему. Число людей, которое погибнет в каждом из районов и пригородов Нью-Йорка, если настанет день ядерной атаки. А приход кораблей с ядерным оружием в городскую гавань может приблизить это несчастье.
Колокола на церкви Святого Креста бьют полдень. С торжествующими криками, со свистом демонстранты «воскресают из мертвых». Они живы!
А пока совесть Америки жива, есть надежда: то, что предстало сегодня на миг на 42-й улице, не станет явью завтра.
Не твори ради праха
Это чистая правда. Об этом случае рассказал мне Гор Видал, известный американский писатель, который сам при том присутствовал.
Они шагали вдвоем по Пятой авеню Нью-Йорка — Видал и его давний друг. Тот, второй, по своему обыкновению шел, глядя себе под ноги. Так спокойнее: уж слишком знакомо всей Америке его лицо. Но разговор увлек обоих. Доказывая что-то, спутник Видала вскинул голову, улыбнулся.
Проходившая мимо толстушка увидела все сразу. Ослепительную синь глаз. Короткие пряди седых волос над высоким лбом. Ироничную усмешку, давно размноженную в миллиардах кинокадров...
Друзья услышали за спиной звук грузного падения.
— Не оборачивайся,— сказал Видалу его спутник.— Пошли отсюда скорее. Это с ними бывает. Она просто потеряла сознание.
Вот уже более трех десятков лет Америка теряет сознание, приходит в восторг, во всяком случае не остается равнодушной при виде актера Пола Ньюмена, голливудской «звезды» первой величины.
Чаще его называют «суперзвездой». Наверное, нынешнее поколение американцев не было бы таким, какое оно есть, без мира ньюменовских киногероев.
Они, эти персонажи, мало походят друг на друга. Но есть какой-то духовный цемент, который склеивает всю эту человеческую многоликость в единое целое—в образ волевой, замкнутой, внешне даже жесткой личности.
Человек не ладит с жизнью. И в этом поединке вдруг как бы проламывается второе, скрытое дно той же души, и мы видим, сколь она трепетна, впечатлительна, ранима.
Затравленный надсмотрщиками, заколоченный заживо в бетонный гроб карцера, погибает в тюрьме Строптивый Люк, герой фильма «Люк— невозмутимый парень». Где-то на последнем круге этого ада приходит весточка с воли: умерла мать. И бьется о каменные стены, бродит по тюремным коридорам эхо мелодии, которую наигрывает на своем банджо Строптивый Люк. Легче отбить у человека почки, чем способность любить и страдать.
В фильме «Подстава» Ньюмен играет мошенника высокого класса. И сам он мошенник, и все друзья его — мошенники. Но эти люди сделали надувательство своей профессией поневоле. Не осталось для них иного занятия в мире, где ворочают миллионами и бросаются людскими судьбами, как гнутыми центами, подлинные махинаторы рыночной экономики.
Чтобы надуть одного такого типа, отомстить ему за совращение рода людского, и объединяются вокруг персонажа Ньюмена мелкие рыбешки шулерского промысла.
Честно говоря, я не думаю, что голливудские сценаристы сознательно старались вложить в фильм какой-то глубокий социальный смысл. Судя по сюжету, нет ее, этой социальной жилки, и в другой знаменитой картине Ньюмена «Бутч Кэссиди и малыш Санденс», где его партнером выступает известный актер Роберт Редфорд. Там стреляют, прыгают со скалы в реку и наконец погибают два в общем-то неплохих парня, что, однако, ничуть не мешает им быть заурядными бандитами.
Есть тысячи голливудских лент, героизирующих и «очеловечивающих» преступников. Есть десятки американских киноактеров, подражающих Ньюмену, его скупой многозначительной и ироничной манере игры.
И трудно сказать, почему при равной скудости драматического материала имитаторы множат экранные пустышки, а само появление на экране Пола Ньюмена заставляет задумываться о неправедности общества, творящего таких «свойских» мошенников и таких очаровательных бандитов.
Нет, только голубыми глазами этого не объяснишь. Один нью-йоркский критик как-то сравнил фильмы Ньюмена с красивыми бабочками. Мол, изумительное зрелище, когда порхают, вот только непонятно, где у них мотор? Критик высмеивает попытки проверить ньюменовскую гармонию алгеброй механического анализа. Тем не менее должно же быть нечто материальное, что поднимает творчество этого актера над роящимся вокруг прибыли облаком голливудских мотыльков?
Чтобы понять это, нужно знать Пола Ньюмена, человека и гражданина.
«А что, собственно, знать-то?!—восклицает иной здешний киноман.— И так все известно!» Как Ньюмен окунает, например, лицо в ледяную воду и поэтому не стареет. Ему уже за шестьдесят, а выглядит как тридцатилетний. Как подарил режиссеру Роберту Олтмену козу и сказал: «Вот тебе собственная винодельня». У Олтмена-то всегда к столу дешевое вино—вроде прокисшего козьего молока. Как с апреля по август нигде в кино не снимается—только гоняет спортивные машины по автодрому...
Не человек со своим духовным миром — вешалка для мифов и небылиц. Таким десятилетиями изображали Пола Ньюмена киношные журнальчики.
Актер выглядел на их страницах, как сотни других актеров. Эксцентричные выходки, благородно-красивые увлечения. «Знаем, знаем,— подмигивал, радуясь собственной смекалке, обыватель,— затем он и участвует в автогонках, чтобы покрасоваться в огнезащитном скафандре перед объективами репортеров».
Где-то в тени оставался такой любопытный факт: Ньюмен дважды добивался титула чемпиона Соединенных Штатов в трековых гонках для водителей-непрофессионалов.
Увлечение? Самореклама?
Да станет ли он рисковать головой только ради того, чтобы лишний раз подогреть внимание прессы к собственной персоне? Ведь американские автосостязания на национальном уровне — это, как известно, риск ежесекундный, смертельный.
Киноактрисе Джоан Вудворд кажется, что она лучше понимает, какие чувства движут человеком по имени Пол Ньюмен, когда тот запирает себя под обтекаемым прозрачным колпаком гоночного автомобиля, вместо того чтобы греться в лучах славы.
— Стремление испытать себя. Вот что «тикает» в Поле,— говорит Джоан.— Он обладает настоящим сокровищем мужества— качеством, которое у нас сегодня так часто недооценивают.
Джоан Вудворд хорошо знает, о чем говорит. Ньюмен — ее муж.
Думаю, она не ошибается. Действительно, именно актерское мужество помогает Ньюмену создавать запоминающиеся, социально значимые образы. Он лишен страха предстать на экране не той стороной профиля. Ньюмен не делает из героя раму для парадного портрета Ньюмена. Он растворяется в своем герое, живет вместе с ним.
Именно оно, гражданское мужество, привело актера несколько лет назад на трибуну митинга против ядерной опасности.
Сохранился снимок, сделанный в те дни. Ньюмен перед микрофоном в легком коричневом костюме. Пиджак распахнут, руки за поясом. На трибуне надпись: «Если хватит лопат, люди президента выроют нашей стране могилу».
Это пародируется известная фраза тогдашнего помощника министра обороны США Джоунса, который заверял американцев: не волнуйтесь, спокойненько переждете ядерную войну в земляных траншеях. Только бы хватило лопат...
Пол Ньюмен знает, что значит сидеть в замкнутом пространстве в ожидании встречи со смертью. В сороковых годах он летал радистом на гидропланах-торпедоносцах. Ходил на подводных лодках с баз на Гуаме и Гавайях. Никакой министр не докажет ему, будто траншея спасет от ядерного смерча. Тем более, что речь идет не об одной жизни, а о выживании всей цивилизации.
А что можно назвать более зримой, более достоверной приметой цивилизации, чем искусство? Черепки гончарных изделий, фундаменты разрушенных колизеев открывают нам творческий гений наших предков. Неужели кто-то когда-то будет судить о триумфах муз в XX веке, изучая под микроскопом еще излучающие радиацию обломки?
Пол Ньюмен, голливудская «звезда» и — что часто не сочетается — мыслящая личность, не хочет, чтобы потомки судили о его фильмах по расплавленным жестяным коробкам.
Дело даже не в собственных фильмах. Ньюмен остро ощущает свой долг быть хранителем цивилизации. Для него это не громкие слова. Творец не может творить ради праха. Должно быть будущее. И должна быть история,
Попробуйте выйти на авансцену, чтобы сыграть Гамлета, не зная точно, вспыхнут ли прожекторы рампы или зарево атомного взрыва? Быть или не быть? Когда речь идет не о терзаниях принца датского, а о судьбах народов, выбор может быть лишь один.
Пол Ньюмен выбрал будущее. Он стал одним из самых активных и красноречивых противников ядерной стратегии Рейгана. Той, что ведет к «ограниченной», «продолжительной», «победоносной» и «переживаемой» войне. Оставьте себе эти наукообразные термины! Отдайте мне утро, росу, листву—жизнь!
В те дни еженедельник «Ньюсуик» взялся пожонглировать серьезной темой ядерного баланса в Европе. Опубликовал таблицы, вывалил россыпь цифр. Выходило, будто в случае ядерного конфликта Соединенные Штаты могут оказать Советскому Союзу примерно такое же сопротивление, как деревянный забор паровому катку.
Любопытно, что миллионы американцев безропотно проглотили эту журналистскую подтасовку. Кроме, по меньшей мере, одного. В редакцию «Ньюсуика» пришло насмешливое письмо.
«Вы умудрились «потерять» 450 американских ракет «Минитмен-2»,— писал читатель,— и 240 ракет «Трайдент-1», оснащенных 1920 ядерными боеголовками. Это оружие в 50 раз превышает по мощности все, что взорвалось во вторую мировую войну. Похоже, вы существенно просчитались...»
Автор нашел и ряд других недостач в ньюсуиковской арифметике. Под письмом стояла подпись—Пол Ньюмен.
Маститый журнал с многомиллионным тиражом не посмел возразить неожиданному критику. Там уже знали: актер стал членом совета вашингтонского Центра оборонной информации, авторитетной организации, изучающей проблемы ядерной стратегии. Ньюмен не играет роль защитника мира. Эта миссия стала его жизнью и заставила обратиться к научному анализу, к профессионалам в области контроля над ядерными вооружениями. С таким Ньюменом трудно спорить.
И «Ньюсуик» завилял хвостом: «Наши схемы представляли баланс европейского ядерного» театра выборочно... Мы сожалеем, что выразились недостаточно ясно».
Европейский ядерный театр! Даже сам термин посягает на то, что так дорого человеку искусства.
Все больше сил отдает Ньюмен борьбе с теми, кто рвется в режиссеры ядерной катастрофы. И с теми, кто бездумно аплодирует таким политикам. В те дни кабельный телевизионный канал Си-эн-эн показал часовую словесную дуэль на тему войны и мира между Ньюменом и его коллегой Чарлтоном Хестоном. Хестон, прославившийся исполнением роли Иисуса Христа в киноэпопее «Библия», требовал наращивать американскую ядерную мощь. Его нисколько не обескураживало, что этот арсенал может уничтожить за минуту все, что его библейский персонаж создал за шесть дней.
Это кажется невероятным, но Ньюмен держался на экране скованно. Нет, актера, конечно, не смущал стеклянный глаз телекамеры. Как Ньюмен потом объяснил друзьям, он боялся «сыграть». А тем более сфальшивить в разговоре на столь серьезную тему.
Но логика Ньюмена была безупречна. «Когда дом полон газа, стоит ли считать, у кого больше спичек—у тебя или соседа?» Его аргументы явно одержали верх над театральным пафосом Хестона, размахивавшего руками и изображавшего из себя нового Ницше.
Актеры спорили о ядерной опасности. Но они также отвечали на глазах у всей Америки на вечный, непроходящий, предельно важный горьковский вопрос: «С кем вы, мастера культуры?»
А такая откровенность здесь—дело рискованное. Сенатор Джо Маккарти, конечно, не воскрес, но борьба за мир никогда еще так определенно не приравнивалась к предательству национальных интересов, как при Рейгане. Испытания, выпавшие на долю Джейн Фонды, Эда Аснера и других актеров, даже не левых, а просто гуманистических убеждений, словно предупреждали Ньюмена: не жди ничего хорошего.
На экраны как раз вышел новый фильм с его участием — «Вердикт». Ньюмен играет там адвоката Фрэнка Голвина, некогда подававшего надежды, но ныне опустившегося, не расстающегося с бутылкой спиртного. К Голвину попадает, видимо, последнее в его карьере дело. В результате медицинской небрежности впала в пожизненную кому молодая женщина. Сестра жертвы возбуждает иск против католического госпиталя. Короче, это — мятеж Фрэнка Голвина против всей неправедной, растленной системы американского здравоохранения и правосудия. И против корыстных клерикалов тоже.
Критика была поражена. Игра Ньюмена никогда еще не достигала таких вершин, как в «Вердикте». Зрелость таланта в сочетании с точным проникновением в драматургию роли создали образ, который должен войти в хронику американского кино
Ньюмена в который раз выдвинули на соискание «Оскара», самой престижной кинопремии. Печать предрекала, что на этот раз металлический божок не минует актера, заслу-жившего его не только фильмом «Вердикт», но и тремя десятилетиями жертвенного труда во славу Голливуда.
Нет, премии он тогда не получил — пришлось ждать ее до 1986 года. Приближенные к кухне «Оскара» критики были убеждены: Ньюмена обошли, чтобы наказать за предосудительную, по мнению властей, активность в мирном движении.
Возьмите себе вашего золотого «Оскара»!
Отдайте мне утро, росу, листву — жизнь!

11 На мосту в прошлое
Вспоминая о том, как мы сражались локоть к локтю, Америка и Советы могут воздвигнуть барьер против того, чтобы сражаться лицом к лицу.
Чарльз Мэтайес, сенатор
Доллар и свастика
На 91-й улице ветер выл, как в трубе. Странно, как не снесло эту записку. Листок из блокнота был пришпилен к двери кнопкой: «Пэрэллел филмз» — звонить на второй этаж».
Записка предназначалась только для меня. Когда я уйду после интервью, записка исчезнет. Никто из посторонних не должен знать, что здесь, в кирпичном домике старой постройки — их в Нью-Йорке зовут «брауни» из-за темнобурого цвета кирпича,—живут те, кто выпускает фильмы с маркой «Пэрэллел».
Страх. Вот участь творца в Америке, если голова у него работает не по официально одобренной программе.
У Джоан Харви — такая голова. Вообще-то это прелестная головка с копной непокорных прядей, с чертами лица, определяемыми здесь как «тип девушки с обложки», и глазами, в которых заблудилась смешинка. Но с точки зрения властей и говоря их модным клерикальным жаргоном, эта голова-сосуд, полный дьявольской ереси.
А в чем ересь? В том, что Джоан Харви подчинила свою жизнь одному твердому убеждению. Если сейчас не задуматься над тем, кто стоит за спиной Рональда Рейгана и его людей, считает она, если не проследить исторические корни этих сил, если немедленно не поставить на их пути барьер международного протеста, нашим детям не вступить в XXI век.
У Джоан Харви есть мужество не говорить — кричать об этом в своем творчестве. И есть мужество признать, что ей страшно. Это не малодушие. Осторожности ее учит жизненный опыт.
Харви выросла и получила образование в Голливуде в те самые постыдные времена, когда имена «звезд» исчезали из титров фильмов, чтобы появиться в черном списке «симпатизирующих коммунистам». Когда в Капитолии заседала комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. Однажды на глазах у Джоан налетчики из ФБР избили активистов профсоюза киноактеров.
Харви лично знала трех человек из печально знаменитой «голливудской десятки». От них, этих жертв мракобесия тех лет, она впервые услышала имя одного из трубачей «охоты на ведьм». Актера-маккартиста звали Рональд Рейган.
— Сегодня многое—как тогда,— говорит Джоан Харви,— Никаких сомнений. Тот же зуд у спецслужб поселиться у каждого интеллигента под кроватью — не читает ли по ночам Маркса? Законодательство соскальзывает в сторону зажима свобод. Мы расчудесно ориентируемся в сортах шампуней и сравнительных преимуществах средств от пота. Но, скажите мне, какая наша телесеть, какая газета набралась храбрости признать вслух, без обиняков, без скептической ухмылки: да, Америка напугана до смерти, как бы ее собственное правительство не разнесло и свою страну, и другие на молекулы?!
Об этом фильм Джоан Харви «Америка: от Гитлера до ракет МХ».
Сделать ленту с таким названием — все равно что написать на себя донос в ФБР. Никто лучше не понимает этого, чем она сама — режиссер и сценарист.
Ладони Джоан стискивают кружку с крутым кипятком, куда она забыла бросить пакетик чая:
— А каков выбор? Ждать судного дня, когда люди Рейгана нащупают ядерную кнопку?
Фильм успел пройти по экранам многих зарубежных фестивалей, получил премию на лондонском, но в Нью-Йорке среди десятков кинотеатров мне не удалось обнаружить ни одного, где бы его демонстрировали. Я посмотрел работу Харви в видеозаписи. Ощущение удивительное: будто взяли и распилили многовековую американскую секвойю.
Перед зрителем предстает гигантский срез общественного мнения — от реакции рядового обывателя до раздумий конгрессмена, анализа военного эксперта. Фильм скуп на броские кадры. Какой-нибудь сноб от критики мог бы навесить на него бирку «говорящие головы». Нет, прежде всего думающие умы. Девяносто минут Америка размышляет о своей истории, о сегодняшней тревоге, о том, как видится ей Советский Союз и его политика.
Эти девяносто минут потрясают. Они перечеркивают годы лжи, в которой упражняется одержимая «публичной дипломатией» и «программой демократии» рейгановская машина пропаганды.
Перелистаем страницы сценарной записи. Прислушаемся к голосу не эфирной — подлинной Америки.
Джоан Харви:
— Какая, по-вашему, сегодня самая неотложная проблема на Земле?
Моджеска Симкинс, 84-летняя негритянка, ветеран движения за гражданские права:
— Мир. Мир! Мы жаждем мира и еще раз мира, а его нет как нет. Помню, в давние годы, когда я заводила речь о мире, они называли меня «попутчицей коммунистов». Помните эти времена? Нет, вы слишком молоды, чтобы помнить. В те минувшие дни, если кто был за мир, они говорили. «Ты коммунист или их попутчик». Помню первый мирный марш на Вашингтон. Только сошла с поезда на вокзале, как слышу, один проводник—другому: «Мать честная, что это тут сегодня полиции битком?» А другой ему: «Не знаешь разве, сегодня в Вашингтоне эти люди мира». Понимаете, «люди мира» были у нас уже тогда. Америка вслух заявляла, что хочет мира, но уже тогда людей, толкующих о мире, предписано было считать опасными Почему? Потому что в стране делают деньги на оружии. .
Лицо старой негритянки расплывается, как бы дробится на кадры мирных демонстраций в Америке наших дней. Вот уже морщинки струятся полотнищами транспарантов. Глаза за линзами очков вспыхивают факелами и свечами. Июнь 1982 года. Нью-Йорк в день грандиозного антивоенного марша, в час мирного потопа. Двое «копов» заталкивают демонстранта в полицейский фургон
Дик Дейз, сотрудник объединенного профсоюза автомобильной промышленности:
— После второй мировой была такая же истерика, такой же разгул маккартистского мышления: караул, русские идут! Давайте, мол, прикончим их прямо сейчас, пока они вроде бы еще не набрались сил. Такая вот чушь...
Стив Торнтон, профсоюзный активист:
— Такая тактика всегда используется для раскола рабочего движения. Метод красного пугала. Возможность ткнуть пальцем: «Вот этот что-то очень розовенький. А вот у этого идеи слишком «того». Давайте-ка изолируем их! Они — не патриоты! Не служат интересам Америки! У них свои тайные цели!» С приходом к власти рейганистов полным ходом пошло то же самое...
Майк Олжански, один из лидеров объединенного профсоюза сталелитейщиков:
— Нас вырастили с мыслью, что Америке нужна большая бомба, чтобы ее не затоптали орды русских. Но сегодня, думаю, люди начинают понимать: если можно взорвать Землю тысячу раз, то, значит, уже нет вопроса, кто сильнее...
На экране — митинг активистов мирного движения. Ряды слушателей, как застывшие волны. И вдруг—наплывом — вырываются из них в клубах пара чудовищные туши ядерных «трайдентов». Точный символ. Америка сидит на ракетах. Ракеты уже сегодня бьют по достатку и правам самих американцев.
Джин Ларок, контр-адмирал в отставке, в прошлом руководитель отдела стратегического планирования Пентагона:
— Нынешняя администрация не только намеревается — она жаждет развязать и выиграть ядерную войну. Разрешите прочесть несколько строк. Это из официальной записки к военному бюджету. «Оборонная политика США обеспечивает нашу готовность дать отпор и в случае необходимости вступить в обычную или в ядерную войну». Это нечто новое! За всю историю ни одна администрация, насколько я знаю, ни одно правительство в мире не заявляло, что его политика обеспечивает «успешное ведение ядерной войны»...
Джоан Харви:
— Наша американская пресса все еще утверждает, будто мы никогда не начнем ядерную войну.
Герберт Сковилл, бывший заместитель директора ЦРУ.
— Да, то же говорит и президент. Тем не менее он продолжает запасаться системами оружия, которые пригодны только для того, чтобы использовать их для первого удара.
Герд Бастиан, бывший генерал бундесвера:
— Убежден, что «Першинги-2» и крылатые ракеты абсолютно непригодны для целей обороны. Это оружие атаки. Оружие, которое из-за своей уязвимости должно быть использовано для первого удара. Иное его применение не имеет смысла.
Джоан Харви жалеет, что в односерийном фильме ей не хватило экранного времени, чтобы показать самое страшное. А именно: как американского обывателя готовят к тому, что такой удар морально оправдан.
Пропаганда играет сегодня в США ту же роль, какую она играла в «третьем рейхе», говорит мне режиссер. Пропаганда стала национальной религией, а мистицизм и религия — смазкой для машины пропаганды.
Предшественникам весело в гробах, мрачно иронизирует Харви. Прочтите-ка вотэто место из записок немецкого военного преступника Альберта Шпеера. Смотрите, как он описывает деятельность геббельсовского министерства пропаганды в последние месяцы войны:
«Лживые гороскопы повествовали о долинах тьмы, которые придется миновать, предсказывали неизбежные приятные сюрпризы, обещали счастливый исход. Только в астрологических выкладках у режима еще было какое-то будущее...»
Нет ли здесь сходства с настроениями, с событиями последних лет? С тем, как Рейган облачается в латы крестоносца? Как с официальной трибуны объявляет страны социализма «средоточием зла в современном мире»? Как публично молится за «спасение тех, кто живет в тоталитарной темноте»? На темя обывателю капает одна и та же идейка: Соединенные Штаты так ангельски прекрасны, а Советский Союз так дьявольски ужасен, что было бы в высшей степени нравственно, если первые обратят второго в радиоактивный пар.
Американская разведка десятилетиями прикрывала фашистского палача Барбье от правосудия. Многих здесь потрясла эта сенсация, но Джоан Харви — нет. Если соратники и единомышленники Барбье в США ждут своего часа, говорит она, этот час, похоже, приближается.
Самая консервативная администрация XX века в сочетании с самой глубокой депрессией послевоенных лет создали сейчас в Америке идеальную питательную среду для разгула нацистских настроений. Ку-клукс-клан, организации религиозных фанатиков вроде «Морального большинства», «новые правые» на политической арене — все они справляют праздник духовной близости к Белому дому. Все они спешат приложить кулак, дубинку, пылающий крест, реакционный законопроект к расправе над остатками гражданских прав американцев.
Страну насилует «фашизм с человеческим лицом». Так уже окрестили этот феномен здешние социологи.
Для Джоан Харви это как просмотр в архиве нацистской кинохроники. Знакомые кадры. Знакомые лозунги. В американской глубинке пылают костры из книг Воннегута, Уитмена, Сэллинджера, Стейнбека, Хеллера, Хэмингуэя. Сенат утвердил так называемый законопроект Симпсона — Маззоли, предлагающий реформу иммиграционных законов. Какую?
Билль вводит систему удостоверений личности, которую сами иммигранты называют фашистской. Хозяева предприятий получат в свои руки новое орудие для дискриминации небелых. Кроме того, законопроект—удобная калитка для иммиграционных властей. Перед одними ее будут распахивать, перед другими — нет. Людям левых убеждений, изгнанным из Чили, Сальвадора, Гватемалы, въезд в США будет закрыт на еще один замок. Зато единомышленников Барбье встречают чуть ли не с оркестром.
Одно из последних подтверждений тому—книга Джона Лофтуса «Белорусский секрет». Речь идет об эвакуации в Соединенные Штаты сотен предателей родины и убийц, составлявших так называемую «белорусскую бригаду СС» на земле оккупированной советской республики. Разоблачение Лофтуса — не фантазия доморощенного охотника за нацистами. Адвокат из Бостона два с половиной года занимал пост прокурора в отделе специальных расследований министерства юстиции США.
Лофтус не просто знает, что преступники осели в Америке. Он знает, кто приказал их впустить. Вопреки решению конгресса, объявившему бывших эсэсовцев в США вне закона. Вопреки указанию президента Трумэна закрыть границы для нацистов. Кто же? Государственный департамент, то есть власти.
Автор «Белорусского секрета» цитирует любопытный документ. Это инструктивное письмо чиновника госдепа Фрэнка Уизнера, направленное в 1951 году Службе иммиграции и натурализации (ИНС).
«В военное время,— говорится в письме,— крайне националистическая ... политическая группа со своей собственной службой безопасности (эвфемизм Уизнера для обозначения СС) очевидно будет большим благом. С другой стороны, отстранение такой группы не принесло бы Соединенным Штатам никакой пользы ни сейчас, ни в случае войны».
Руководствуясь этим представлением о национальном благе, ИНС, по данным Лофтуса, «импортировала лидеров почти всех марионеточных режимов, насажденных «третьим рейхом» от Балтики до Черного моря». Кое-кого из этих наместников Гитлера американская земля устала носить. Человек, которого прочили в «мэры Москвы», получил пышное надгробие на кладбище в городке Саут-Ривер, штат Нью-Джерси. Но другие прекрасно вписались в здешнее общество, обросли клубами единомышленников и процветают.
Случаен ли этот густо-коричневый налет на образе мыслей администрации, на образе жизни Соединенных Штатов 80-х годов? Нет! — отвечает каждым кадром фильм «Америка: от Гитлера до ракет МХ».
Джоан Харви:
— В первую, а затем и во вторую мировые войны американский бизнес, наши промышленники помогали вооружению Германии, поддерживали Гитлера, его восхождение к власти. Но знают ли молодые немцы, в какой степени американский промышленный капитал накачал мускулы Германии для второй мировой войны?
Герт Бастиан:
— Известно, что Крупп и другие гигантские концерны помогали Гитлеру прийти к власти в надежде, что они таким образом воздвигнут дамбу против большевизма и умножат капитал на оружейном бизнесе. В какой мере за спиной этих концернов действовал еще более крупный американский капитал —об этом в ФРГ нет четкого представления.
Стив Торнтон:
— Американские корпорации «Форд», «Дюпон», ЭССО и другие активно занимались монтажом германской военной машины в 30-е годы. Нельзя недооценивать их влияние и ту технологию, которую они предоставили. Германские власти награждали наших промышленников медалями.
Эдвин Варгас, профсоюзный деятель:
— Сегодня это не секрет. Многие технологические новинки, те, что привели к ранним победам нацистов на фронтах Европы и к гибели миллионов людей, были изобретены в США. Наши транснациональные корпорации продавали технологию странам «оси» через нейтральные государства вроде Швейцарии...
На экране улыбчивый Гитлер принимает парад. Гитлер в окружении генералов пальцем чертит на карте стрелы. Из брюха бомбардировщика с черным крестом сыплются бомбы.
Герт Бастиан:
— После войны выяснилось, что многие предприятия в Германии не подвергались бомбежкам, хотя они играли решающую роль в военной экономике и поэтому должны были стать первоочередными мишенями. Интересы финансового капитала не знают границ даже воюющих стран — это неконтролируемые и зловещие силы, противостоящие интересам народов.
В послевоенные годы в ФРГ были проведены судебные процессы над некоторыми столпами военной индустрии. Они были признаны виновными, понесли наказание. Но это ничего не изменило. Система осталась той же самой. Я имею в виду международные связи крупных картелей, концернов, высших финансовых кругов. Они действуют, как прежде: заинтересованность в гонке вооружений, в новых оружейных заказах, в росте прибылей грубо попирает стремление народов к разоружению, миру и мирному сосуществованию.
Джоан Харви:
— Что для меня страшнее ада, так это наша забывчивость. Ведь американские корпорации, которые вели бизнес вместе с «И. Г. Фарбениндустри», Круппом и поддерживали Гитлера во вторую мировую войну,—это те же самые люди, кто получает оружейные контракты в США сегодня. Вы об этом знаете? Именно они поддерживают Рейгана и делают деньги на военных заказах.
Моджеска Симкине:
— Рядовой американец и понятия не имеет, как они опасны для народа. Я-то узнала — за свои долгие годы. Понимаете, бог Америки — это не Всевышний, а Всевышний Доллар. Запишите себе черным по белому. Эти оружейные короли и денежные воротилы сидят на самом верху. Оттуда приходят к нам все наши беды, а эти, что наверху, всегда столкуются вокруг доллара. Доллар — вот корень зла...
И, словно прислушавшись к совету записать истину черным по белому, цветные кадры сменяет пожелтевшая лента хроники: аккуратные горки ботинок и очков- перед печами Освенцима. Поля трупов и одинокие, сгорбленные фигурки уцелевших. Где взять силы, чтобы схоронить всю эту расстрелянную, удушенную газами, истерзанную плоть, эти горы горя?
Когда Джоан Харви снимала свой фильм, она еще многого не знала. Еще не вышло в свет сенсационное исследование бывшего сотрудника «Нью-Йорк таймс» историка Чарльза Хайэма «Сделки с врагом». У книги подзаголовок — «Разоблачение нацистско-американского денежного сговора 1939—1949 годов».
Разоблачать есть что. Факты, добытые Хайэмом из только что рассекреченных документов национального архива США и других источников, складываются в гнуснейшую картину прелюбодеяния с диктатурой Гитлера таких столпов американского бизнеса, как «Стандарт ойл оф Нью-Джерси», «Чейз Манхэттен бэнк», «Тексас компани», «Интернэшнл телефон энд телеграф корпорейшн», «Форд», «Стерлинг продактс» и прочая, и прочая Это кощунство получало поддержку американской администрации, включая министра торговли Джесса Джоунса, министра финансов Генри Моргентау и высших чинов государственного департамента.
Май 1944 года. Ясное утро Томас Маккитрик, американский президент контролируемого нацистами «Банка международных операций» (БИС) в Базеле, Швейцария, прибывает в свой офис, чтобы председательствовать на ежегодном собрании директоров, четвертом за военные годы. Эти господа, в том числе гитлеровский эмиссар Эмиль Пуль, радостно обсуждают прибытие в хранилища БИС 20-килограммовых золотых слитков, оцениваемых в 378 миллионов американских долларов
На золоте — следы крови. Оно награблено из банков оккупированных стран. Это также золотые оправы очков, кольца, портсигары, зубы заключенных нацистских лагерей смерти, переплавленные в подземельях рейхсбанка.
Еще в марте 1943 года конгрессмен Джерри Вурис предложил резолюцию, требующую расследования операций БИС. Его интересовали «причины, по которым американский гражданин сохраняет пост президента банка и используется для продвижения интересов и целей держав «оси». Резолюция Вуриса даже не обсуждалась конгрессом Тогда же, в 1 943 году, пишет Чарльз Хайэм, Маккитрик совершил поездку с американским паспортом в Берлин, где информировал гитлеровцев о финансовой конъюнктуре и настроениях в правительственных кругах США.
После войны Рокфеллеры и финансовый магнат Уинтроп Олдрич наградили Маккитрика постом вице-президента банка «Чейз нэшнл». В 1950 году тот пригласил Эмиля Пуля в Америку в качестве почетного гостя. Друзья вспоминали золотые деньки.
Это лишь одна документальная история из книги «Сделки с врагом». Их там много. И одна поразительнее другой.
В 1942 году, когда американцы и англичане стояли в очередях за бензином, «Стандарт ойл оф Нью-Джерси» переправляла нефть через нейтральную Швейцарию для заправки гитлеровских танков и транспортеров.
Заводы Форда в оккупированной Европе, в частности гигантский комплекс в Пуасси под Парижем, продолжали все военные годы выпускать авиационные двигатели, грузовики и автомашины для нацистской Германии. Разумеется, с полного ведома и одобрения американских хозяев. «В начале этого года мы обязуемся сделать все для конечной победы»,— писала заводская газета предприятий Форда в Германии.
Вальтер Шелленберг, глава контрразведывательной службы гестапо СД, состоял в то же время ... одним из директоров американской «Интернэшнл телефон энд телеграф корпорейшн» (ИТТ).
Шеф ИТТ Состенес Бен лично летал во время войны из Нью-Йорка в Мадрид и Берн, чтобы усовершенствовать коммуникационные системы гитлеровской армии. Позднее, в 1946 году, Бен получил от правительства США медаль — высший знак отличия для гражданских лиц. На церемонии награждения специальный представитель Г. Трумэна сказал:
— Вам воздается за выдающиеся услуги, оказанные Соединенным Штатам...
«Магнаты были объединены общей идеологией,— пишет Чарльз Хайэм,— идеологией бизнеса. Разделяя схожие реакционные идеи, они стремились к общему будущему в виде фашистского господства вне зависимости от того, какой лидер сможет приблизить эту цель (выделено мной.— В. С.)».
Когда я поинтересовался у Джоан Харви ее мнением о книге «Сделки с врагом», она сказала:
— Я рада, что эти скелеты, наконец, вываливаются из наших сейфов. Американцы скорее поймут, кто дергает за ниточки команду Рейгана.
На экране проплывает панорама крупнейшего заводского комплекса по производству ядерного оружия в Саванна-Ривер. Им владеет Дюпон. Другие фабрики ядерной смерти принадлежат Вестингаузу, «Дженерал электрик»... Оружейное дело в США остается в частных руках, причем в тех же самых руках, которые приветствовали и подпирали известную личность с чубчиком поперек узкого лба.
Когда в 1923 году до Гитлера дошли слухи, будто Форд собирается выдвинуть себя кандидатом в президенты, он заявил в интервью репортеру «Чикаго трибюн»:
«Я хотел бы послать моих штурмовиков в Чикаго и другие крупные американские города на помощь». Не отдает ли сегодня американский бизнес свой долг за эти симпатии?
У автора фильма «Америка: от Гитлера до ракет МХ» в этом мало сомнений.
Небо на экране вспыхивает заревом. Нет, не восход солнца. Первые испытания американских атомных бомб. Их испытывали в пустыне, на атоллах и... на людях.
Винсент Роуз, служил в военной полиции на атолле Эниветок в Тихом океане:
— Нам не давали даже темных очков. Просто приказывали: «Повернитесь спиной к взрыву, лицом к корабельным надстройкам».
Говард Хинки, был телефонистом на испытательном полигоне в Неваде:
— Мне приходилось идти в направлении взрыва, когда все еще полыхало. Грибовидное облако еще висело, а мы уже двигались к эпицентру. Они нас использовали, как морских свинок. Впрочем, нет, даже не как морских свинок, потому что за свинками потом как-то присматривают. Обо мне же забыли. Мой мальчик, мой единственный, ему было бы теперь восемнадцать... Он умер двадцати месяцев от роду. Родился без пищевода...
Винсент Роуз:
— У меня рак прямой кишки...
Джоан Харви:
— Какие чувства вызывает у вас идея использования ядерного оружия?
Говард Хинки:
— Уже то, что я видел,— ужасно. Ужасно! Не могу представить, что кто-то попытается вести какую бы то ни было ядерную войну. Это безумие! Мы взрывали там 44 килотонны. А это вроде игрушечного пистона по сравнению с тем, о чем они рассуждают сегодня.
Винсент Роуз:
— Если кто-то захочет уничтожить мир в один-два дня — надежнее способа нет.
Д-р Розали Бертелл, консультант Агентства по охране окружающей среды:
— Испытательный полигон в Неваде стал зоной бедствия А бомбы там все еще продолжают взрывать каждую вторую неделю, а иногда по две в неделю.
Рональд Деллумс, конгрессмен:
— Мы занимаемся стремительным, безостановочным наращиванием военного бюджета США за счет социальных программ и миллионов человеческих судеб. Нельзя сразу и обрастать вооружениями, и повышать качество жизни. Мы приносим в жертву миллионы людей ради производства этого безумия.
Мы также убиваем наших детей. Дети растут в тени ядерного взрыва. Дети больше не мечтают, не видят снов, у них отныне нет надежды. А когда у тебя нет надежды, когда ты больше не способен мечтать, ты мертв. Вот почему я говорю: мы убиваем наших детей!
Сидней Ленс, редактор журнала «Прогрессив»:
— И они запугивают американский народ до смерти этой угрозой коммунизма, искажают и раздувают ее.
Дэвид Коллинз, член городского совета Буффало, штат Нью-Йорк:
— Подозреваю, что военный бюджет служит не защите нашей страны от каких бы то ни было «врагов» — беру это слово в кавычки, потому что не уверен, знаем ли мы, кто истинный враг нашей страны,— итак, подозреваю, что большая часть военных приготовлений направлена на то, чтобы было чем сокрушить восстание в этой стране против политики Белого дома. Люди поставлены в положение, когда они не могут выжить. Им ничего не остается, кроме как восстать, и с этим-то восстанием, подозреваю, и готовятся разделаться военные.
Рональд Деллумс:
— Думаю, протест против всего этого вырвется наружу. И мне кажется, они готовятся на такой случай. Сейчас вот уже натравили Центральное разведывательное управление на американский народ, на домашние дела, не так ли? Почему? Потому что, думаю, они чувствуют: им вот-вот бросят вызов, и они готовятся ответить на вызов более широкими репрессиями.
Это первое. Второе. Когда взвинчиваешь пропаганду вокруг проблем национальной безопасности, нетрудно зажать права человека с такой присказкой: «Нет-нет, мы не хотим нарушать чьи-либо демократические права, но национальная безопасность важнее. Мы должны больше тревожиться об угрозе со стороны Советов, чем о правах или о ваших гражданских свободах!» И так далее, и тому подобное.
Эстер Херст, директор Национального комитета против репрессивного законодательства:
— Если мы позволим ФБР и ЦРУ вести такую слежку и проникать в наши дома, какую они хотят развернуть, если мы позволим гонке вооружений продолжаться, тогда мы окончательно выйдем на дорогу к полицейскому государству.
Д-р Розали Бертелл:
— Чтобы управлять такой страной, в какую мы превращаемся, необходимо полицейское государство. Нынешнее правительство поддерживать нельзя.
Дик Дейз:
— Ну, хорошо, мы будем продолжать двигаться в направлении к фашизму, потому что именно туда мы нацелились, и пока они там, наверху, носятся с коммунистическим пугалом, мы будем двигаться все быстрее. А бедный труженик тем временем заперт в клетке своих нужд... Люди бьются из последних сил, чтобы сохранить сданное по закладной, чтобы оплатить ребенку место в школе, а они там кромсают и без того ничтожные программы, которые как-никак помогали семьям выкручиваться Завтра они крикнут: «Хайль Гитлер!»
Уже после того как фильм Джоан Харви был снят, скорость движения страны в сторону полицейского государства резко возросла. В марте 1983 года президент подписал новую директиву по национальной безопасности, которая нависла над каждым американцем многоглазым соглядатаем. Р. Рейган ввел, например, повальную проверку государственных служащих на полиграфе, как наукообразно именуют здесь детектор лжи. Отныне каждого чиновника можно отправить в кабинет, где машина сопоставит его ответы с частотой дыхания и уровнем потовыделения. У подчиненных Гиммлера такой техники, конечно, не было.
На решение президента живо откликнулось Федеральное бюро расследований. Там разработаны собственные «основные направления в области внутренней безопасности» Направление все туда же—в замочную скважину частной квартиры. Впервые в истории годовой бюджет ФБР перепрыгнул через миллиард долларов. «Призрак Гувера над ФБР!»— тоскливо воскликнула «Нью-Йорк таймс». На газетном рисунке над полями магнитофонной пленки весело порхают бабочки с крыльями из ушных раковин...
Джоан Харви знаком этот веселенький пейзаж. Бабочки этого сорта вились над ней, когда она еще играла в прогрессивных театральных труппах Нью-Йорка, писала сценарии для радикально настроенных постановщиков канадского и британского телевидения.
Потом пришло время первой самостоятельной работы. Документальная драма «Мы — морские свинки» рассказывала об аварии на атомном реакторе в Гаррисбурге, штат Пенсильвания. Ушастые бабочки закружились плотным хороводом.
Сейчас эта фэбээровская фауна лезет во все щели нью-йоркского политического театра «Четвертая стена», где Джоан Харви — художественный руководитель. Такова цена творческой самостоятельности в Америке.
На экране заключительные кадры.
Макс Бокэс, сенатор от штата Монтана:
— Нынешняя администрация по известным ей причинам хочет стать мировым полицейским, контролировать судьбу всех народов во всех странах. Не думаю, что у нас есть для этого возможности. Главным образом дело в том, что у Соединенных Штатов, нет никаких моральных прав быть в мире страной номер один. Надо сосуществовать.
Джоан Харви:
— Считаете ли вы, что русские готовы к сотрудничеству?
Поль Уорнке, в прошлом директор Агентства по контролю над вооружениями и разоружению, бывший руководитель делегации США на переговорах по ОСВ-2:
— Конечно! Может быть, у нас не очень много общего. Но общее есть. Это заинтересованность в национальном выживании.
Джин Ларок:
— Истинный враг сегодня — не Советский Союз. Это ядерная война.
Джоан Харви вышла проводить меня в холл своего дома на 91-й улице. Там выстроились в рядок старые детские коляски. Вспомнилось: Джоан — мать пятерых детей.
— Я сняла свой фильм и ради них,—сказала она. И спросила:— Дети и ядерные ракеты — разве это совместимо?..
Фрэнк, арийский мститель
С некоторых пор у жителей Кливленда, штат Огайо, не осталось никаких сомнений насчет того, где обитает смерть. Она поселилась в местном университете.
Февраль 1982-го. Студент входит в университетский туалет и спотыкается о распростертое тело. Священник Горейс Рикерсон убит выстрелом в упор.
Август. Пулю в голову получает техник-смотритель университетских зданий Тимоти Шихэн.
Через три дня на стоянке автобуса умирает, обливаясь кровью, семнадцатилетний студент Брайан Уорфорд. Откуда выстрелили, неясно.
Позднее, с интервалом в несколько недель, кто-то стреляет в преподавателей университета Джона Хардавея и Колетту Дарт. Первый ранен, второй посчастливилось — промах.
Полиция вроде бы теряется в догадках. Теория одного убийцы не находит там сторонников. Хотя убивают в пределах двух кварталов, жертвы слишком различны, чтобы можно было заподозрить какой-то общий мотив преступлений.
Месть студента-неудачника преподавателям и соученикам? Но при чем здесь техник-смотритель и случайно оказавшийся в университетском городке священник?
Расизм? Но Рикерсон, Уорфорд и Хардавей — черные, а Шихэн и Дарт—белые.
В сентябре 1983 года в Кливленде был арестован за бессмысленную пальбу ночью из собственного окна некто Фрэнк Спайсек, 32 лет. Револьвер конфисковали, нарушителя порядка отпустили под залог. Нарушение-то по здешним меркам смехотворное. Ну, стрельнул человек раз-другой в луну. Так никого же не угробил. Насмотрелся, видно, бедняга, телевизионных передач, перенапряг слабые нервы.
Странно, но полиции и в голову не пришло примерить Спайсека на роль «университетского убийцы». Каким-то непонятным образом избежал проверки по электронным картотекам и конфискованный револьвер. Как будто кто-то не хотел сложить из кусочков всю мозаичную картину только потому, что она складывалась слишком просто, логично, почти сама собой.
Наконец в полицейский участок позвонили. Не назвав себя, женщина посоветовала:
— Лучше бы вам все-таки приглядеться к револьверу Спайсека, не встречался ли он в других недавних преступлениях...
Полиция поняла: кто-то знает слишком много. Неохотно провели элементарную техническую экспертизу и сквозь зубы признали: да, именно этот револьвер уже год косит людей в городском университете.
На первом же допросе убийца признался во всем. Деловито обрисовал и главный мотив кровавых похождений. Он. Спайсек, в душе называет себя «арийским мстителем». Считает своим гражданским долгом вести в одиночку «войну против черных и евреев».
Преступника освидетельствовал психиатр, нашел полностью нормальным.
— Как вы сами считаете, голова у вас работает хорошо?— поинтересовался у подзащитного адвокат.
— Никогда лучше не работала,—с удовольствием засмеялся Фрэнк Спайсек.
Он стоял перед судьями — здоровенный, с деловой короткой стрижкой, в хорошо отглаженной рубашке и галстуке с какими-то веселыми завитушками. Нормальный американский гражданин в здравом уме и доброй памяти. Клерк внимательно записывал его речь:
— Даже если этот ваш суд признает меня тысячу раз виновным, верховный суд нашего великого арийского владыки оправдает меня. Хайль Гитлер!
Рука дернулась вперед. Звякнула цепь—наручники были прикованы к поясу.
Приговор суда: электрический стул.
Никаких особых замечаний по поводу любопытных убеждений преступника сделано не было. Они, взгляды эти, вообще остались за бортом судебного разбирательства. Убил троих—этого достаточно, чтобы послать на смертную казнь.
А почему убил? Какую войну в одиночку затеял? Это уже сумеречная, с точки зрения юристов Кливленда, зона.
Ток через стул так и не пропустили. Исполнение приговора явно завязло в апелляциях, словно верховный арийский владыка, упомянутый Спайсеком на суде, существует на самом деле и хочет оправдать своего верноподданного.
Пока судопроизводство буксует, социология исследует явление.
Ей интересно, каким образом в восьмидесятых годах американская действительность порождает личности, которым место было в нацистской Германии конца тридцатых.
Неожиданную пищу для размышлений дал 218-страничный доклад министерства юстиции США, посвященный делу Барбье. И для размышлений, и для параллелей. Нетрудно было заметить, что Эллан Райан, главный автор доклада и специальный помощник заместителя генерального прокурора США, провел расследование в манере, во многом характеризующей кливлендскую полицию в деле Фрэнка Спайсека.
Само деяние отрицать невозможно. С 1947 года по начало 50-х Соединенные Штаты пользовались услугами бывшего шефа гестапо в Лионе для шпионажа против стран Востока и Французской компартии.
Вашингтон обманул Францию, заявив, что не знает о местонахождении Барбье, когда в Париже начали его розыск. Тем временем для палача Лиона и его семьи оформлялись фальшивые паспорта. Тем временем американские контрразведчики переправляли его в Боливию по так называемой «крысиной тропе». По ней же бежали от возмездия и сотни других нацистских убийц.
Сухо изложив эти позорные факты, автор доклада налег на другое. Укрытие Барбье, отмечает Райан, «не было одобрено в официальном смысле правительством Соединенных Штатов». Вся вина взваливается на армейскую контрразведку, которая будто бы «действовала самостоятельно».
Так сказать, снова «война в одиночку». Снова, как и в случае с фашистом Спайсеком, явные улики почему-то не внушают никаких подозрений.
Между тем достаточно было еще в 1947 году заглянуть в книгу-список военных преступников, которая имелась у всех союзников по антигитлеровской коалиции, чтобы обнаружить: Барбье разыскивается за массовые убийства.
Честная Америка крайне скептически оценила доклад министерства юстиции. С ее точки зрения, это дешевая химчистка репутации США, которая не дала результатов.
История с Барбье, отмечала нью-йоркский юрист Элизабет Хольцман, «это лишь один из многих тревожных случаев, когда власти США помогали установленным нацистским военным преступникам».
Вчера помогли шефу гестапо бежать от расплаты по «крысиной тропе». Он прожил уже на десятки лет больше, чем сотни французов, замученных им в Лионе.
Сегодня потихоньку ведут дело к тому, чтобы не дать сесть на электрический стул Фрэнку Спайсеку. И, главное, не увидеть за убийцей явления.
А явление в общем-то знакомое. Приход к власти наиболее консервативной администрации в новейшей истории. США — это прекрасная теплица для размножения коричневых микробов. Ультраправые силы находят понимание, если не поддержку, у тех, кто правит сегодня Америкой. Пока власти солидно рассуждают о демократии, неонацисты реагируют на это слово, хватаясь за пистолет.
У Фрэнка Спайсека это получилось наиболее наглядно.
В ход идет и канистра с бензином. В городе Вест-Хэртфорде, штат Коннектикут, вспыхнули факелами две синагоги. В 1983 году по всей стране было зарегистрировано 829 антисемитских выходок. В будущем, предупредили социологи, их ожидается значительно больше
Самое удручающее, что в рейгановскую эпоху никто не мешает поджигателям, осквернителям и убийцам открыто проповедовать свои цели.
Простоватый Фрэнк Спайсек, тот так и сказал на суде:
— Полагаю, моя цель была достаточно благородной...
Возвращение к Эльбе
Эту газетную страничку теперь так просто не добыть. Ее хранят в военных архивах. И в семейных шкатулках, вместе с самым драгоценным. Беру в руки плотный, почти не пожелтевший лист—словно прикасаюсь душой к тому долгожданному, переполненному радостью, пахнущему гарью и первой весенней травой дню.
Три слова броскими буквами: «Янки встречаются с красными».
И ниже—теперь уже исторический текст, продиктованный по рации фронтовым репортером Энди Руни:
«Американская и русская армии встретились в 75 милях к югу от Берлина, разрезав Германию надвое и перекрыв последний зазор, существовавший между Восточным и Западным фронтами. Смычка, о которой вчера одновременно объявили в Вашингтоне, Москве и Лондоне, произошла в 4.40 после полудня в среду в Торгау, на реке Эльбе... Русских солдат лучше всего можно описать так: они точно такие же, как американцы... Охватывает чувство неудержимого веселья, открывается великий новый мир...»
Так писала тогда американская армейская газета «Старз энд страйпс». Та, что в каждом номере теперь не упускает случая намекнуть, как русские непохожи на американцев. По духу агрессоры, от природы варвары, не ценят жизнь...
Для листка Пентагона та самая среда — 25 апреля 1945 года—давно провалилась куда-то в небытие вместе с «великим новым миром» общечеловеческого братства и доверия. Теплые чувства у его редакторов вызывают теперь другие вести: американская бомбежка Ливии, необъявленная война ЦРУ против Никарагуа. А Эльба? И-и-и, куда хватили! Ведь 40 лет прошло...
Но у Америки не такая короткая память, как у ее просветителей в военных мундирах.
Голос в телефонной трубке звучит четко, отрывисто. Так Альберт Котцебу, лейтенант Первой армии США, наверное, и отдавал приказы своим парням, когда вел их на восточный берег Эльбы, чтобы обняться с русскими.
Были ли они там первыми? Многие американские военные историки теперь считают: отряд Котцебу на четыре с половиной часа опередил группу лейтенанта Уильяма Робертсона. Сам Котцебу не придает этому большого значения Какая разница, кто первым пожал руку советскому солдату. Важно, что пожали. Важно, что сошлись вместе среди пожаров и смерти и пообещали друг другу: такого больше не допустим!
Бывший лейтенант — полковник в отставке. Отставка не от полнокровной жизни. В те дни, еще не зная, что через два года его подстережет смерть, он учился на юриста, на следующей неделе начинались экзамены. Но для разговора с корреспондентом АПН и «Литературной газеты» время, конечно, нашлось.
— Помню ли, как оно было? Помню все детали! Для меня не сорок лет позади — каких-нибудь сорок минут. Будто вот только что позвонили из штаба батальона. «Немедленно выслать патруль к Эльбе, на восточный берег. Проверьте, объявились ли там русские...»
Взял 28 человек. Взял 7 «джипов». Езды всего 20 миль, а не проехать. Навстречу сплошной людской поток. Беженцы, дезертиры из гитлеровской армии. Кое-кто из солдат, не поверите, в женских юбках, в туфлях на каблуках. Маскарад!
В 11.30 утра добрались до Эльбы. Смотрим, на том берегу действительно фигурки в хаки, в шапочках-пилотках. Река неширокая, но мчится быстро. Непередаваемое ощущение ликования! Вот он, последний водный рубеж! За ним — союзники и, значит, конец войне.
Дал две зеленые ракеты в воздух. Ваши отнеслись сперва недоверчиво. Их, оказывается, уже обманывали немцы, прикидываясь американцами. Наконец после переклички, разных сигналов русские показывают: перебирайтесь на эту сторону.
А как перебраться? Мост ныряет в воду—разбомбили. Мы метнулись ниже по течению. Там у берега нашлись баржа и две лодки. Прикованы цепями. Гранатой рванул одну цепь, сели вшестером, налегли на весла.
И вот—встреча! Обнимаемся с вашими, в глазах слезы... А место страшное. Тут только что, видать, навели понтонный мост, хлынули люди, и вдруг—все всмятку! То ли вражеская пушка накрыла, то ли наши американские бомбардировщики перестарались. Короче, кругом месиво из людей, лошадей, взорванной земли. И лежит девочка с голубыми глазами, годков ей пять-шесть, в одной ручонке кукла, в другой — материнская рука...
Море смерти. И мы с русскими посреди. Как символ того, что в дружбе народов, в союзе против завоевателей—залог жизни.
Тут подоспел русский лейтенант, звали его, кажется, Гордеев. А среди моих был рядовой Поповски, Джо Поповски. Он знал немного немецкий. Ваши тоже — кто по-немецки, кто чуть-чуть по-английски. Всю ночь поднимали тосты. За президента, за Сталина, за Красную Армию, за дружбу русских и американцев. Потом появились аккордеон, гитары. Учили ваших петь «Суони-ривер», они нас — «Катюшу».
А пели будто не мы — пела наша общая победа. Понимал ли я тогда историчность того мгновения? Понимал. Вот была самая страшная война, в какую когда-либо вступало человечество. И вот наше братство с другим народом, с русскими, одолело зло. Я человек глубоко религиозный, для меня в этом было и всегда будет что-то библейское...
Наш разговор с Котцебу возвращается в сегодняшний день. Тут полковник не видит, как он говорит, больших просветов. Самое близкое к Эльбе, что только есть сейчас,— это Женева. Он, Котцебу, не знает ни одного американца, кто бы не приветствовал переговоры. Нужно остановить ядерную гонку. И нужно всем — и американцам, и русским — хорошо помянуть юбилей Эльбы! Пусть пережитое сильнее стучит в наши сердца.
— Я, конечно, не советчик нашей администрации,— говорит, помолчав, ветеран.— Они там меня ни о чем не спрашивают. Но скажу так—гнет она, администрация, сегодня не в ту сторону...
Котцебу в детали не вдается. Коротко, деловито прощается. Но мне и так ясно, что имеет в виду человек, свято хранящий память о рукопожатии с советскими братьями по оружию там, на неширокой, но быстрой Эльбе.
Из газеты «Нью-Йорк таймс»:
«Бонн. Правительство Соединенных Штатов решило бойкотировать юбилейную встречу на Эльбе советских и американских ветеранов второй мировой войны. Как стало известно от американских дипломатов, на церемонии в честь 40-й годовщины встречи между Красной Армией и американскими вооруженными силами, которая состоится 25 апреля в Восточной Германии, не будет ни представителя правительства США, ни американского почетного караула».
Это удар в спину благородной идее. С ней выступили «Ветераны за мир», чикагская организация, основанная тем самым Джо Половски, что служил под началом Котцебу. К сорокалетию Победы чикагцы задумали грандиозное «Путешествие во имя мира». Решили собраться вместе и отправиться в конце апреля в Вашингтон. Поговорить там с сенаторами, с конгрессменами. Объяснить иным тугодумам, что Эльба—это не только история. Это будущее. Не отпраздновать по достоинству юбилей встречи на далекой реке— значит упустить шанс восстановить хоть в какой-то степени дух доверия между бывшими союзниками.
Дальше на маршруте поездки — Нью-Йорк. Встречи в секретариате Организации Объединенных Наций. Ведь рождение этого международного форума совпало день в день с советско-американским братанием на Эльбе. Для чикагских ветеранов это не случайное совпадение. Они убеждены: это символ того, что благополучие и безопасность международного сообщества недостижимы, если они не опираются на добрые отношения между США и СССР.
Об этом, кстати, предупреждал еще Дуайт Эйзенхауэр.
«Мы можем наконец оглянуться назад,— говорил президент,— и определить день, на который приходится пик наших усилий установить мировое согласие. 25 апреля официально открылась конференция в Сан-Франциско, созванная для создания Организации Объединенных Наций. И в тот же день американские и русские войска встретились на Эльбе, и мы увидели конец войны, и на горизонте, казалось, уже занималась заря мирной организации мира. Если оглянемся назад, то, думаю, для многих из нас день 25 апреля, вероятно, предстанет как юбилей вдвойне, как вершина наших достижений в этом направлении».
В том же направлении, к миру — и путешествие чикагцев. После Нью-Йорка их ждал Амстердам, нужно поклониться памяти Анны Франк. А святой для них апрельский день они задумали провести в городке Торгау на Эльбе, куда к тому времени подоспели бы и советские ветераны. Вместе вспомнили бы, какие пели песни, какие давали клятвы. Великая Победа свершалась, наверное, не затем, чтобы стрелять друг в друга лазерами где-нибудь в космосе?
Э, стоп!—сказали тут идеологи правительственной администрации. История, кажется, начинает путаться под ногами национальной военной политики.
В результате Вашингтон предал анафеме благородную идею чикагцев, а заодно и ту зарю мира, которая занялась над Эльбой 40 лет назад.
Нет, юбилей-то администрация, конечно, решила отметить. Но по-своему. Не как совместный с Советским Союзом триумф всей антигитлеровской коалиции, а как примирение с бывшими врагами.
Один чин из аппарата Белого дома шепнул репортеру Бернарду Уэйнраубу:
— Дело уже решенное! И мы, и британцы, и французы уже договорились между собой о главной теме юбилея. Это — примирение с противниками.
И после паузы поставил точку:
— Все, что могло бы сделать юбилей неудобным для Западной Германии, признано нежелательным...
Читай — неудобным для реваншистов ФРГ. Рейган предполагал прибыть на Рейн, чтобы принять участие в очередном совещании «семерки» ведущих капиталистических стран Запада. Но сорокалетие Победы должно было застать его уже в другом месте: никаких неудобств для нынешних союзников. «Зачем бередить старые раны?!—воскликнул президент.— Зачем возрождать ненависть той эры?!»
Он с азартом согласился на невообразимое. Решил заехать в западногерманский городок Битбург на тамошнее воинское кладбище, чтобы постоять в скорбном молчании... у могил фашистских солдат. В том числе 47 эсэсовцев.
Венок к обелискам тех, кто пытал, вешал, жег в печах Европу! Ничего себе юбилейное мероприятие на высшем уровне.
— Это трагедия!—отозвался о кощунственной идее президента М. Розенсафт, глава Международной организации жертв фашистского террора.—Трагедия, что в 40-ю годовщину освобождения нас, американцев, заставляют размышлять над тем, как почтить память офицеров СС. Все это настолько отвратительно с моральной точки зрения, что даже не верится...
Почему не верится? Просто президент, как он элегантно выразился, не хочет «возбуждать ненависть той эры». Возлюбите эсэсовцев, дорогие сограждане!
Вот ненависть к Ялте, к Потсдаму — это другое дело. На эти тлеющие угли высшие чины американской администрации дули в те дни до потемнения в глазах. То там, то тут выскочит статейка, а то и заявленьице: Рузвельт допустил ошибку, не президент был, а предатель — поступился интересами «свободного мира» в Европе. Послевоенные границы государств континента удовлетворяют европейские народы, но не Вашингтон. Тому они мерещатся в виде некоего зловещего «водораздела между свободой и угнетением». Президент так и сказал:
— Я, не колеблясь, заявляю, что мы хотим упразднить эту линию.
Не «линию» они хотят упразднить, а саму историю второй мировой войны. Отмахнуться от ее уроков. Скрыть улики, которые говорят: нет и не было у Запада никакого оправдания для его послевоенных изобретений — «холодной войны», маккартизма, создания военной машины НАТО, антисоветских «крестовых походов».
Слезы наших вдов, пепел наших деревень, могилы наших близких клянутся за Советский Союз — нет, не может это государство обречь другую страну на испытания, сквозь которые довелось пройти ему самому.
А так ли уж велики жертвы русских во имя Победы? Или ее поднесли им на блюдечке союзники?
Их вопросики. Американская пресса корежит, сплющивает историческую истину, как паровой пресс — старые автомобильные кузова.
В популярном журнале «Нью-Йорк таймс мэгэзин» небезызвестный фронтовой журналист, а ныне военный обозреватель Дрю Миддлтон разразился в те дни статьей «Битва, которая решила судьбу Германии». Интересно, что за битва? Под Москвой? Сталинградская? Курская?
Нет, декабрьское сражение 1944 года в Арденнах. «После этой битвы,— повествует Миддлтон,— все дороги, какие бы ни выбрала Германия, неизбежно вели... к безоговорочной капитуляции», И тут же эффектные схемы сражения — могучие американские стрелы вонзаются в бок противника. И тут же — броские снимки, где американский офицер заносит в записную книжечку личные номера тех, кого недосчитался. Вот, мол, какие потери.
Обыватель с увлечением листает журнал. Разглядывает картинки. Иной юный американец именно через этот журнал впервые приобщается к истории войны, которая, с его точки зрения, прогремела где-то до новой эры—до Кореи, до Вьетнама, до Гренады. И нигде среди этого словесного фейерверка в честь «переломных битв» на Западном фронте не находит он — хотя бы в сноске, хотя бы меленьким шрифтом— рассказа о том, что происходило тогда на советско-германском фронте.
А ведь даже после Нормандии именно там шли главные сражения. Именно там в июле 1944-го увязло 235 гитлеровских дивизий, тогда как на Западном фронте вермахт держал всего 60.
Но как-то затерял эту детальку в ворохе своих необозримых знаний маститый военный обозреватель. Думаю, не нашлось у него и времени, чтобы почитать изданную в 1949 году книгу Эдуарда Стеттиниуса «Рузвельт и русские». А автор делает там вывод, мимо которого нельзя пройти честным летописцам второй мировой:
«Американцы должны помнить,— пишет бывший госсекретарь США,— что в 1942 году они были на грани катастрофы. Если бы Советский Союз не удержал свой фронт, германская армия оказалась бы в состоянии покорить Великобританию. Ей также удалось бы растоптать Африку, и в этом случае она смогла бы захватить плацдарм в Латинской Америке».
Редко слышны сегодня в Америке признания долга советскому солдату. С такой непривычной для здешнего читателя, взволнованной и благодарной ноты начал свою статью в «Вашингтон пост» сенатор Чарльз Мэтайес. Озаглавлена она так, что иной высокий чин в Вашингтоне мог быпоперхнуться: «Давайте поприветствуем наших русских союзников. Наша общая победа в 45-м может вдохновить мирные усилия сегодня».
«Повсюду в Америке есть семьи,— пишет сенатор,— продолжающие существовать только благодаря жертвам Красной Армии... Вспоминая о том, как мы сражались локоть к локтю, Америка и Советы могут воздвигнуть барьер против того, чтобы сражаться лицом к лицу».
Лучше не скажешь.
Вместе со Спарком Мацунагой, сенатором от штата Гавайи, Мэтайес направил тогда президенту рекомендацию, как лучше было бы официально отпраздновать встречу на Эльбе. Тот отмолчался. Зато в контору Мэтайеса на Капитолийском холме хлынул поток писем. Люди предлагали покопаться в архивах, найти ныне здравствующих американцев — участников совместных военных операций с русскими.
Мэтайес вспоминает в своей статье поход крейсера «Милуоки» в Мурманск весной 1944 года и так называемую операцию «Фрэнтик»—челночные бомбежки, когда американские «летающие крепости» поднимались с полевых аэродромов близ Полтавы.
Я позвонил сенатору, и он прислал мне копии многих писем, Удалось также связаться с Бруклинской базой ВМС в Нью-Йорке, откуда ушел к советским берегам «Милуоки». Там, на базе, осмелились на невероятную в условиях антисоветизма услугу—поместили в закрытой газете ВМС США объявление:
«Советский корреспондент хочет взять интервью у ветерана «Милуоки».
Архивариусы Пентагона тоже оказали любезность. Прислали адрес ассоциации ветеранов 8-й авиадивизии, которая участвовала в операции «Фрэнтик».
И хлынула лавина писем. Сразу стало ясно: я переоценил свои силы. Анализировать эти отклики, это извержение благодарной людской памяти, проследить каждую ниточку духовной близости между советским и американским солдатом, завязанную между взрывами, между атаками, среди смерти и горя великой войны,— все это под силу разве что какому-нибудь мемуарно-историческому центру. Встречи с русскими в районе Эльбы. Встречи на чешской границе. Встречи даже на Аляске. Поклоны до земли советскому героизму. Недоумение: как же так, до чего дошли, кто тому виной? Пронзительная, как вой тыловой сирены, тревога: а не вознесется ли над Эльбой недопустимое — ядерный гриб?
И, как порыв ветра, разгоняющий эти мрачные раздумья,— восторг американского летчика, приземлившегося в июне 1944 года под Полтавой:
«Россия! Никто не сказал нам, что ты так прекрасна!»
Старые солдаты не умирают
Никто не говорит сегодня американцам и о том, что Россия верна памяти Эльбы.
А вот Джозеф Половски всегда знал это. Тот Джо, что был в шестерке лейтенанта Котцебу, а потом, вернувшись в родной Чикаго, никак не мог найти себе места. Нет, занятие, конечно, было — крутил баранку такси. Мотался среди прокопченных, угоревших небоскребов. Но чувствовал: жизнь дана ему не для этого. Судьба соединила его в братском объятии с советским воином на Эльбе, чтобы возложить на него, Джо Половски, великую миссию: служить хранителем тепла в советско-американских отношениях. Быть часовым у обелиска на Эльбе.
И он выполнил это предназначение до конца.
В 1949 году по его инициативе делегации Коста-Рики, Ливана и Филиппин вносят в ООН резолюцию, где предлагают объявить день встречи на Эльбе Международным днем мира.
В той атмосфере ненависти ко всему советскому, какая раздувалась тогда в США, это стало немалой победой. Радостный день для ветерана. Он идет со своей новостью на радиостанции, в газеты. И в том числе в студенческую газету Чикагского университета, где редактором был тогда юный Лерой Уолинс. С той минуты и началась их многолетняя, скрепленная общими идеалами дружба. В Америке принято давать клятву на Библии. О Лерое Уолинсе и Джозефе Половски можно сказать так: их библией стала «Клятва на Эльбе». На этом документе, написанном Половски, два чикагца поклялись посвятить свои жизни взаимопониманию между народами Америки и Советского Союза.
— Конечно же, я опубликовал тогда в нашем студенческом листке статью о Джо и его идеях,— рассказывает мне Уолинс.— Опасное это было дело! Осведомители комитета по антиамериканской деятельности усердствовали вовсю. Скажешь доброе слово о Советах — кончишь плохо...
Уолинс — чуть не кончил. Скорее всего именно из-за того, что он призывал в своих статьях не забывать Эльбу, его и забрили на войну в Корее. Вот, мол, тосковал, что не удалось повоевать вместе с русскими против Гитлера — постреляй-ка теперь в Азии в своих милых коммунистов. Наши враги в любой стране одного цвета — красные.
К счастью, авантюра США в Корее скоро захлебнулась. Корабль, на котором Уолинса собрались было везти на войну, так и не отошел от американских берегов. Лерой вернулся домой и в ворохе старой почты нашел письмо от Половски.
— Джо писал, что 25 апреля 1955 года исполняется десятая годовщина Эльбы,— вспоминает мой собеседник.— Маккарти к тому времени сошел со сцены. Политическая погода немножко потеплела, и мой друг спрашивал: «А не можем мы придумать что-нибудь полезное, как-то отметить юбилей?»
И они придумали. 25 апреля 1955 года собрали в Вашингтоне 13 американских ветеранов встречи на Эльбе, а потом Половски повез восьмерых из них в Москву. Поездка и ответный визит советских боевых друзей в какой-то степени затормозили маховик вражды к СССР.
В 1966 году Половски и Уолинс создают в Чикаго организацию «Ветераны за мир», выступающую за возрождение духа Эльбы в странах антигитлеровской коалиции.
— Ясное дело, ветераны лучше многих знают, какое это несчастье — война. Поэтому кому, как не им, крепить мир,— объясняет мне Уолинс.— Но у нашей организации есть и другая цель. Мы хотели донести до американцев мысль о том, что борьба за мир—это патриотично. Как ни странно, у нас это надо втолковывать и втолковывать. Люди Рейгана постарались создать мирному движению дурную репутацию. Будто оно непатриотично, будто прислуживает кому-то за рубежом. Мы же, ветераны, говорим вот что: мирное движение, частью которого мы являемся,— это не сборище трусов, или шпионов, или дезертиров. Мирное движение — самое патриотичное движение в нашей стране. И когда мы выходим на антивоенные демонстрации с американским флагом, порой в униформе, то, знаете,— народ это понимает...
К началу 80-х годов «Ветераны за мир» приобрели общенациональную известность. Беда была лишь в том, что Джо Половски уже не появлялся ни на митингах, ни на демонстрациях. Расцвет организации застал ее создателя на смертном одре.
Казалось, старого солдата загоняет в могилу не болезнь. Его сжигало, опустошало понимание того, что администрация Рейгана сознательно скользит к конфронтации с Советским Союзом. А у него, Джозефа Половски, рядового 273-го полка 69-й пехотной дивизии Первой армии США, нет сил пошевелить пальцем, чтобы остановить беду.
Или есть?
И Половски решает превратить в орудие борьбы за мир собственную смерть.
В своем завещании он просит похоронить себя на Эльбе, там, откуда началась его новая жизнь во имя доброты и доверия между Америкой и Советами. Друзья прочли рассудительные, отрешенные, как бы уже не написанные его рукой, а выбитые на мраморе строки: «Похороны в Торгау, на Эльбе, будут иметь успокаивающее, созидательное и позитивное воздействие на события».
— Большой души решение,— говорит мне Мэри.— Да только я, если честно, не верила, что из этого что-нибудь получится. Денег-то не было. На что гроб-то везти...
Хрупкая, рано поседевшая женщина с певучим говором, какой можно услышать в негритянских поселках дельты Миссисипи,— вдова ветерана. Ее руки недвижимо лежат на коленях, на цветастом кухонном фартуке. Как упавшие ветви на лугу.
— Нет, им там, наверху, недорога память о тех, кто отвоевал Европе свободу вместе с русскими. О таких, как Джо. А Джо? Он, что же, он — настоящий солдат. Отсюда его великое решение. Не сразу к нему пришло. Ведь люди не думают о смерти, правда? Не решают до срока, где их похоронят, правда? Ну, а когда подступило... Когда понял, что умирает, тогда...
Администрация ветеранов наотрез отказала Джо Половски в средствах на его, как там сказали, взбалмошную, если не бредовую затею. Хоронить себя придумал на пригорке у красных По ту сторону идеологической границы. Кладбищ и крематориев ему в Америке не хватает, что ли? Да мы даже похороны в космосе можем устроить — вот какая у нас есть общественная услуга: А ему всего этого мало. Нет, дорогой наш ветеран, хочешь лечь в землю чужую,— плати денежки за доставку гроба сам!
У Джо Половски было одно возражение. В том же завещании он написал так:
«На мой взгляд, мои похороны в Торгау оплачены кровью, пролитой во вторую мировую солдатами—союзниками с Востока и Запада».
Ответом сверху стало молчание. Солдатская кровь — не золотые слитки. На нее на нью-йоркской фондовой бирже ежеутренне курс не высчитывают.
И вот в одно хмурое утро встал Джо Половски на Мичиганском мосту через Чикаго-ривер с плакатиком на шее. Стоит одинокой фигурой. Идут мимо прохожие, читают, переглядываются. Притормаживают такси. Из окошек высовываются водители, пассажиры, тоже читают, тоже в глазах полуусмешки-полуиспуг.
А потом прозрение! Многие поняли: старый солдат собирает деньги на свои похороны в чужой стране не из чудачества. Хочет навечно уснуть там, откуда открылись горизонты мира в Европе. Откуда прошлое дает будущему урок общечеловеческого, антивоенного братства
Когда-то Джо Половски форсировал в передовом дозоре Эльбу. Теперь сама смерть ветерана приобретала смысл передового дозора во имя мира, во имя жизни.
По мосту взад-вперед трусят молодцы в плащах и черных очках. У ФБР сосет под ложечкой. Черт его знает, чем может обернуться для национальной безопасности такое погребальное диссидентство? Не дай бог—смута...
Половски с его беззаветной преданностью духу Эльбы внушал американским властям подозрение.
Миллионер Джо Хэррел, напротив, слывет за образцового ультрапатриота. Его организация так и называется — «Лига защиты христианских патриотов». На своей персональной военной базе в южном Иллинойсе, которую охраняют стражи в формах со свастиками, Хэррел готовит несколько сотен единомышленников к войне «посвирепее вьетнамской».
С кем? С неарийцами. С теми, кого не успели сжечь в печах крематориев, расстрелять у бабьих яров. Не поворачивается язык сказать, но это факт — в Америке, как раз накануне 40-летия Победы, фанатики нацизма канонизировали Гитлера, объявив его «воплощением библейского пророка Ильи». А сочинение фюрера «Майн кампф» переиздали как ... раздел Библии!
Иллинойсский миллионер не одинок в своем кощунстве. Их тьма, этих ультрареакционных, псевдорелигиозных, отпочковавшихся от ку-клукс-клана, хорошо вооруженных организаций, которые хотели бы заменить звезды на американском флаге паучьими крестами. Фашизм резвится под добродушным оком властей.
«Патриотическая лига» Хэррела уже вербует владельцев самолетов — создает собственные ВВС. Коричневая группировка «Арийские нации» нащупывает единомышленников среди уголовников. Сотни заключенных в тюрьмах Техаса получают ее листовки и книжки. Сюжет одной брошюрки, озаглавленной «Арийский воин», таков: некий мифический солдат с чудо-мечом и способностью управлять молниями обращает в рабство краснокожего дракона...
Все это не мелочь. Не паноптикум безумцев. Явление настолько серьезно, что солидный американский еженедельник «Ньюсуик» счел необходимым предупредить:
«Рейгановская революция (используется термин самого президента.— В. С.) вовлекла многих приверженцев крайне правых взглядов в фарватер нового консерватизма... Ультраправые осуществляют изощренные террористические операции с использованием структуры боевых ячеек, явочных квартир, приемов дезинформации и фальшивых удостоверений личности».
Сорок лет спустя после краха «третьего рейха» фашизм в Америке, как принято здесь выражаться, «жив и брыкается». Дошло до того, что неонацисты избрали для юбилейных празднеств свою собственную дату. Конечно, не 25 апреля — день встречи на Эльбе. И не 8 мая, которое считают днем победы союзников в Европе. Что же тогда? 1 мая — «сороковую годовщину извещения о смерти Гитлера». Каково?!
У коричневого сорняка, который лезет здесь во все щели, глубокие корни.
Это прекрасно доказал уже знакомый нам историк Чарльз Хайэм.
Я хочу еще раз вспомнить добытые им тайны. Взглянуть на кощунство глазами солдат второй мировой.
Когда Джо Половски и его боевые друзья пробивались навстречу друг другу к Эльбе, «Стандарт ойл оф Нью-Джерси» переправляла через нейтральную Швейцарию нефть для заправки гитлеровских танков.
Когда солдаты шли к Эльбе, их расстреливали на бреющем полете бомбардировщики «люфтваффе», оснащенные двигателями, которые безостановочно сходили с конвейеров заводов Форда в Западной Европе.
Когда солдаты шли к Эльбе, Вальтер Шелленберг, глава контрразведывательной службы гестапо СД, состоял также одним из директоров американской «Интернэшнл телефон энд телеграф корпорейшн».
Когда солдаты шли к Эльбе, шеф ИТТ Состенес Бен летал из Нью-Йорка в Мадрид и Берн, чтобы усовершенствовать коммуникационные системы гитлеровской армии.
Когда солдаты шли к Эльбе, Томас Маккитрик, американский президент контролируемого нацистами швейцарского «Банка международных операций» (БИС), принял от Гитлера 378 миллионов американских долларов в 20-килограммовых слитках. Это были золотые оправы очков, обручальные кольца, портсигары, золотые зубы, переплавленные в нацистских лагерях смерти.
Счастье, что обо всем этом не довелось узнать Джозефу Половски. Книга Чарльза Хайэма «Сделки с врагом» вышла после его смерти
А мечта ветерана сбылась. Он совершил невероятное— помог делу мира даже после смерти. Друзья собрали деньги, и в один из ноябрьских дней три американских и три советских офицера опустили его гроб, накрытый звездно-
полосатым флагом, в могилу на крутом берегу Эльбы. Отсюда до места, где Джо встретил русских,— чуть больше полутора километров.
Генерал Макартур как-то сказал: «Старые солдаты не умирают, они просто уходят в небытие». Нет, генерал, иногда они навечно остаются в передовом дозоре.
В дозоре мира на Эльбе.
1 р. 60к.
«Книга В. Симонова интересна потому, что она населена живыми людьми, полна событий, и почти вся его информация— это информация из первых рук».
«За рубежом»
«Книга Владимира Симонова остра и разоблачительна».
«Комсомольская правда»
«Не будет преувеличением назвать В. Симонова одним из самых ярких наших журналистов, работающих за рубежом».
«Литературная газета»
Так оценила советская печать первую книгу автора — «Британия без туманов».

Теперь Владимир Симонов, ведущий публицист-международник, политический обозреватель Агентства печати Новости, представляет на суд читателя работу, посвященную Соединенным Штатам 80-х годов.
Это сложная Америка. Такая, какой ее открыл для себя автор за четыре года, проведенных в стране в качестве собственного корреспондента АПН и «Литературной газеты». Владимир Симонов избежал исхоженных репортерских троп. Его смелый творческий поиск отмечен высшей наградой Союза журналистов СССР — премией имени В. В. Воровского.
На страницах этой книги читатель окунется в карнавальное веселье Нового Орлеана. Зайдет за кулисы театрального Бродвея. Приобщится к раздумьям знаменитого хирурга, сотворившего первого человека с механическим сердцем. Встретится с идолами рок-н-ролла и джаза...
Книга Владимира Симонова — для тех, кому интересно знать: чем же ты дышишь, сегодняшняя Америка?
Оглавление
- Размышления у треснувшего колокола (вместо предисловия)
- 1 Чудным утром в Гринсборо
- Записка на бланке «Интуриста»
- 88 секунд
- День лояльности
- 2 Когда кончается карнавал
- Час забытых забот
- Купите колонию!
- Труба Луи Армстронга
- Конец джаза?
- Парад тревог
- 3 Механическое сердце и живые души
- А все-таки оно бьется!
- Прометей по-американски
- Быть ли сердцу запчастью?
- Наука в частном сейфе
- 4 Сколько шагов до мечты?
- Боль и надежды Гарлема
- Расизм с полицейской бляхой
- Чечетка на могиле
- 5 Взгляд на Бродвей и на многое другое
- Великий путь в банк
- Расправа над премьерой
- «Таймс» снимает пенсне
- Как остановился «Американский хронограф»
- «Не верю, что мы обречены»
- 6 Час в тюрьме у Леонарда Пелтиера
- ФБР против узника №89637—132
- Г-жа Свобода с кулаком
- В петле
- 7 Яблочный пирог без яблок
- Флаг под пиво
- Эра подавленного инакомыслия
- Убийство в Сиэтле
- 8 Нет рая в Сан-Франциско
- Семьсот семьдесят седьмой
- Яростный Гарри
- Инкубаторы смерти
- 9 Тени на камнях
- Инструмент для шантажа
- Тогда и сегодня
- Расстрел донкихота
- Репортаж с 42-й улицы
- Не твори ради праха
- 10 Осторожно : психооружие!
- Чужая воля
- Мадам Зодиак и К0
- Живая могила на шоссе Рузвельта
- Гуманисты со шприцем
- 11 На мосту в прошлое
- Доллар и свастика
- Возвращение к Эльбе
- Старые солдаты не умирают
- 12 Империя страха
- Американцы, будьте бдительны!
- Крушение «мира, каким мы его знаем»
- Как я примерял пуленепробиваемый жилет
- Пока святоши молятся
- 13 Соединенные Штаты Теократии
- Святой террор
- Аресты на амвоне
- Затрубят ли ангелы перед ядерной атакой?
- 14 Рок-н-ролл на похоронах
- Муха в янтаре
- Убит американской мечтой
- Рожденный для бега
- Видеобезумие
- 15 Америка без Марка Твена
- Современен, но чем?
- Распятие духа
- 16 Завещание “Чэлленджера“
- Космическая Жанна д'Арк
- Призыв к очищению
Пометки
- Обложка
Unknown
Начало



ББК 66.3(7США)
С37
Рецензент — В. Кобыш
Художник — Э. Таланов
Симонов В. А. Чем дышишь, Америка? — М.: АПН, 1987, —с. (Б-чка АПН)
100000 экз.
О чем думает знаменитый американский хирург Уильям Де Врис, когда отсекает живое сердце и пришивает механическое? Зачем ЦРУ отняло у сварщика Марти Коски разум, превратив его в управляемого робота? Счастливы ли «звезды» рок-н-ролла, раскатывающие в роскошных лимузинах?..
Об этом и многом другом — книга известного советского журналиста Владимира Симонова, много лет проработавшего в Соединенных Штатах в качестве корреспондента АПН и «Литературной газеты»
«Чем дышишь, Америка?» — это рассказ о сегодняшней общественно-политической и культурной жизни США на примере конкретных человеческих судеб и событий, очевидцем которых автору довелось стать
Книга адресована широкому кругу читателей.
Без объявл.
ISBN 5—7020—0006—4
© Издательство Агентства печати Новости, 1987




Размышления у треснувшего колокола (вместо предисловия)
Я пишу эти строки на 28-м этаже башни, что стоит на Бродвее, почти в географическом центре Нью-Йорка. Здесь — корпункт АПН и «Литературной газеты» в Соединенных Штатах Америки. Здесь был мой дом и мое рабочее место в течение коротких, мелькнувших, как искра, четырех лет.
Я смотрю с высоты на этот никогда не засыпающий, безумный, любимый мною город, на реку Гудзон, над которой снуют вертолеты, на полоску вечерней зари, накрывающую штат Нью-Джерси...
А вижу другой закат. Багрово-коричневый, как запекшаяся кровь. Тот, что высветил в один из майских вечеров 1985 года еще теплые руины на окраине Филадельфии.
Страшное, по-моему, это словосочетание — теплые руины. Только что здесь было семейное гнездо, только что в четырех стенах переплетались людские судьбы, и вот — лишь дымок над пеплом.
Помню, автомашину пришлось поставить за несколько кварталов. Ближе к месту не пускают. Район Осэдж-авеню и Пайн-стрит огорожен наспех сколоченными деревянными барьерами. Вдоль них, словно охраняя двор какой-то гигантской тюрьмы, ходят полицейские в форме и в штатском. Бубнят в мегафоны:
— Вы житель этого квартала? Нет? Идите своей дорогой! Живее, живее! Здесь задерживаться нельзя! Живее!..
Но люди стоят, прижавшись к барьерам, и молча смотрят на обгорелые стены. Железные балки торчат темными крестами над грудами закопченного кирпича. Три улицы руин и отчаяния, которое висит в этом дымном воздухе.
Вот и все, что осталось от рабочего негритянского предместья Филадельфии.
Под ногами хрустнула рамка от семейной фотографии. Снимок наполовину сгорел, сохранилось лишь изображение пышного, наверное, свадебного платья.
Когда-то здесь играли свадьбу. А 13 мая 1985 года бомбили и жгли женщин, детей и вместе с ними тебя, инакомыслящая Америка.
Сегодня трагедия полностью оснащена статистикой. Сгорели одиннадцать человек, среди них четверо ребятишек. Сгорело также 60 жилых домов. Сотни негритянских семей, оставшихся без кола, без двора, повели тогда ночевать в подвалы церквей, в атомные бомбоубежища, сооруженные на тот случай, если «русские сбросят бомбу».
А сбросила ее своя филадельфийская полиция.
Раз! — и нет неудобной религиозно-философской организации «Мув». Раз! — и испарилась в огненном смерче община людей, восставших против страсти к наживе, пронизывающей здешнее общество. Против самой американской цивилизации, разрушающей, по их мнению, и природу, и доброе начало в душе человеческой.
Бомбой по этой подозрительной, не укладывающейся в казенные папки философии!
Пытаюсь пройти за ограждение на само пожарище. Мое корреспондентское удостоверение ходит по рукам от одного чина к другому. Потом его несут в специальный автобус, где у полиции оборудован оперативный штаб. Никто, видно, не отваживается взять на себя ответственность за решение: пускать этого русского на место события или не пускать.
Наконец дают «о'кей». Иду в глубь выжженного квартала. В тишине, какая бывает на кладбищах, затвор моего фотоаппарата грохочет на всю улицу.
Люди в желтых касках испуганно оглядываются, но продолжают свое странное занятие — просеивают пепел сквозь решето.
— Что ищут? — спрашиваю у оказавшегося рядом фоторепортера местной газеты.
— Кости. Человеческие кости. Определяют, всех ли погубили или кто-нибудь, не дай бог, спасся...
...Почему, покидая Америку после многолетней и по-журналистски захватывающей командировки, я восстанавливаю в памяти именно эту угрюмую сцену, считаю нужным предварить ею свою книгу?
Убежден: история когда-нибудь поставит трагедию на Осэдж-авеню в ряд с вьетнамской, с выстрелами в Далласе, с позором «Уотергейта». В тот день думающая Америка не только справляла панихиду по останкам, найденным в полицейском решете. Она во многом хоронила свои иллюзии.
Есть и другое: слишком много в расправе с «Мув» символики. Немыслимое для цивилизованной державы стряслось не где-нибудь — в Филадельфии. В колыбели Соединенных Штатов.
Это сюда, в этот «город братской любви» в штате Пенсильвания, везут автобусы иностранных туристов, чтобы показать восторженной, обвешанной фотоаппаратами и видеокамерами толпе старинный, красного кирпича дом с прямоугольной башней, увенчанной шпилем.
Неподалеку швея Бетси Росс вышила первый звездно-полосатый флаг. А здесь, в этом доме, подписали Декларацию независимости и позднее Конституцию.
«Мы, народ Соединенных Штатов, дабы образовать более совершенный Союз, установить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие, обеспечить совместную оборону, содействовать общему благоденствию и закрепить блага свободы за нами и потомством нашим, провозглашаем и учреждаем настоящую Конституцию Соединенных Штатов Америки».
Мы, народ... Никакой, конечно, народ этот исторический документ не писал. Его сотворили «отцы-основатели», люди с именами Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин, Джеймс Мэдисон, юристы, крупные лендлорды, плантаторы-рабовладельцы. Те, кто собрался на конституционный конвент в Филадельфии весной 1787 года.
Конституция учла интересы нарождавшейся американской буржуазии, дала простор новым производственным отношениям. Этим ее достоинства, пожалуй, исчерпывались. Алистер Кук, известный популяризатор американской истории, пишет в своей книге «Америка»:
«За семнадцать недель пятьдесят пять утомленных людей достигли триумфа трех принципов, на которых стоит, хотя и довольно шатко, эта федеральная республика. Вот они, эти принципы: компромисс, компромисс и компромисс».
Что, например, делать с рабами-неграми? Засчитывать ли их в население штата для определения его представительства в конгрессе? Юг был «за», Север—«против». Авторы Конституции пришли к такому компромиссу: считать каждого негра... за три пятых человека!
Если судить по бомбежке в Филадельфии, случившейся два века спустя, эта расистская доля со временем уменьшилась.
Да, прошло уже два столетия. Конституция США — единственная буржуазная конституция, что остается в действии с XVII века. Тогда, 17 сентября 1787 года, над Филадельфией повис звон колокола, возвестивший об окончании конституционного конвента. «Отцы-основатели» поставили последнюю точку.
Символичная деталь: в Конституции не было сказано ни слова о правах человека. Первые десять поправок к ней, составляющие так называемый «Билль о правах», вступили в силу только в 1791 году.
А «колокол свободы» жив до сих пор. Грузный и гордый, он покоится в особом павильоне в Филадельфии, подставляя свои потемневшие бока под объективы туристов.
В тот траурный день, 13 мая 1985 года, я зашел к нему на свидание прямо с пожарища. Моя ладонь, прильнувшая к металлу, словно передала ему тепло пепла.
Колокол портила трещина. Я знал о ее существовании. Она появилась после первой пробы звука, как только медную махину доставили с Британских островов. Колокол тут же перелили заново. Но он опять треснул, когда надо было звонить во славу судьи Верховного суда Джорджа Маршалла.
Сейчас трещина показалась мне шире. Разошлась, что ли, от взрыва бомбы на Осэдж-авеню?
Я стоял у этой американской святыни, олицетворяющей «блага свободы», и думал о гигантской трещине, о все расширяющейся пропасти, которая отделяет в Соединенных Штатах бумажную Конституцию от жизни.
Сколько тысяч раз на каких-нибудь международных конференциях на трибуну поднимался американский эксперт по правам человека и начинал корить другие страны? В одной, мол, людей от религии отвлекают. В другой — число синагог недостаточное. В третьей — конструктора баллистической ракеты почему-то не пускают за рубеж. Ай-ай-ай!..
Американский высший разум вроде бы поучает дикие племена. Хранитель глобальной морали как бы делится своим озарением с варварами.
А моральная вершина здешней администрации находится, оказывается, на высоте вертолета, откуда лейтенант полиции Фрэнк Пауэлл сбросил чемодан желатинообразной взрывчатки «товекс ТР-2» на дом № 6221 по Осэдж-авеню, где молились не тому богу, пели не те песни...
За годы, проведенные в Америке, вид с небоскреба, где находился корпункт, конечно, не ограничивался заревом филадельфийского пожара.
Страна мчалась по колее прогресса. На моих глазах вышли из лабораторий, утвердились в витринах магазинов, а потом и в обычной американской семье персональные компьютеры. В медицинском центре штата Юта, а позднее в Луисвилле хирург Уильям Де Врис вставил в живую человеческую грудь пластмассовое сердце-мотор. Синь реки, которую было видно из моего кабинета, сокращалась, как шагреневая кожа,— вокруг выпрыгивали вверх жилые башни удивительных, дерзко современных линий.
Что и говорить, есть чему поучиться у тебя, Америка! Твоему умению молниеносно строить, причем без лесов, без пылинки. Твоей сноровке вести сельское хозяйство — хотя, бывает, этот успех замешан на слезах фермеров. Твоему искусству управлять, когда менеджер предвидит сегодня, что именно случится завтра и на рубежах научно-технического прогресса, и в душах подчиненных.
Но в те же 1982—1986 годы из окон нью-йоркского небоскреба открылось мне и другое.
Приход к власти одной из наиболее консервативных, если не самой консервативной администрации в истории Соединенных Штатов, привел к тяжелым временам для американца-труженика. К появлению целого класса «новых бедняков». К крайним формам подавления инакомыслия.
Трещина на «колоколе свободы» все расширялась...
Правящая верхушка ловко использовала феномен так называемого «нового патриотизма», чтобы «продать» американскому обывателю свою агрессивную, пропитанную антисоветизмом внешнюю политику.
Еще более четко проявилась двойственность общепринятой морали: вседозволенность—для состоятельных классов, бесправие — для бедных. Религия и массовая культура во всех ее формах — рок-музыка, видео, «вокзальная литература» — в еще большей, невиданной ранее степени стали инструментами социального усмирения американцев, в первую очередь молодежи.
Трещина на «колоколе свободы» все расширялась...
За те же годы моей работы в Нью-Йорке администрация подбросила щедрые миллионы в бюджеты полиции и Федерального бюро расследований. В результате благодарный репрессивный аппарат арестовал, засудил и приговорил к разным срокам рекордное число граждан — 439 тысяч. Это в два раза больше, чем за семидесятые годы.
Созидание мест заключения не поспевало за умножением числа узников. В стране появился новый прибыльный бизнес—тюрьмы, центры для малолетних преступников, этапные лагеря, принадлежащие частным корпорациям. Так сказать, решетки и засовы — в аренду государству.
Трещина на «колоколе свободы» все расширялась...
Сложная, яркая, противоречивая мозаика, из которой складывается картина Соединенных Штатов Америки 80-х годов. Вот содержание книги, что в руках у читателя. Это репортажи с мест событий, привлекавших тогда внимание всей страны. Это мои беседы с политиками, бездомными, борцами за мир, без пяти минут самоубийцами, драматургами, джазовыми музыкантами, заключенными, хирургами, рок-идолами...— с теми, кто так или иначе определял в те годы пути общественной мысли Америки, черты ее образа жизни.
Подготавливая главы этой книги к печати, я не старался припудрить, «омолодить» написанное по горячим следам. Нельзя ретушировать моментальный, репортажно сделанный фотоснимок, не рискуя замазать детали, сместить игру света и тени. А без этого нет правды журналистского документа.
Было бы радостно на душе, если бы, закрыв последнюю страницу этой книги, читатель подумал:
«Теперь яснее, чем ты дышишь, Америка...»
Автор

1 Чудным утром в Гринсборо
Ужасная трагедия, случившаяся в 1979 году, — это часть растущей национальной проблемы реакционного насилия. Страшно представить себе, что пять человек были убиты средь бела дня перед объективами телевизионных камер и до сих пор никто за это не ответил..
Коретта Скотт Кинг, общественный деятель, вдова Мартина Лютера Кинга, великого борца за права американцев
Записка на бланке «Интуриста»
Казалось бы, Америка исследована вдоль и поперек. Однако до сих пор неизвестно, где в этой обширной стране лучше всего.
В какой географической точке расположен здешний рай?
Д-р Ричард Пиерс, декан факультета географии Нью-Йоркского университета, решил восполнить пробел. Все-таки сила науки — в сближении с жизнью.
Профессор подошел к проблеме методично. Сначала собрал статистику по всем городам США. Какой там климат, как обстоит дело с транспортом, высок ли процент грабежей и так далее. Потом запустил эти данные в ЭВМ с наказом: ищи идеальную обитель!
Та нашла. И дождей в этом пункте в пределах мечты. И на автобусе можно добраться—хочешь в роддом, а хочешь — на кладбище. А главное, за последние годы погибла тут насильственной смертью всего-навсего горстка людей. Не преступность, а смех один.
Где это царство нирваны? В городе Гринсборо, штат Северная Каролина.
Между тем именно здесь, в этом райском Гринсборо, стряслось, пожалуй, самое гнусное преступление, какое только видела Америка за последние десятилетия.
Слух о нем дошел до меня еще в Москве летом 1982-го.
Проработав почти четыре года собкором АПН и «Литературной газеты» в Англии, я перебирался тогда в Нью-Йорк, на новое корреспондентское место. Жена сидела на чемоданах в Лондоне, а мне разрешили короткую командировку домой. Надо было оставить там свой английский архив, обсудить в высоких редакционных кабинетах, как и с чего начинать собственное открытие Америки.
Неспокойные это были дни. С жаждой хоть завтра засесть за пишущую машинку в новой стране смешивалось какое-то смутное чувство тревоги. Нет, не страх перед новизной, а, скорее, нервное ожидание незнакомой, более стремительной профессиональной круговерти, другого, более весомого бремени ответственности.
Ее, эту ответственность, словно чувствуешь на кончиках пальцев, когда выстукиваешь первую строку: «Собкор в Нью-Йорке передает...» Все-таки мало в мире событий, которые так или иначе не касаются Соединенных Штатов, этого гиганта и флагмана чужой системы.
С другой стороны, мало там осталось непаханной собкорами целины. В нашей международной журналистике — уж не знаю достоинство это или примета странной склонности рассматривать мир с одной и той же привычной стороны — довольно тесно от американистов. А разве журналист жив лишь страноведением?
Нет, собираясь тогда, в 1982-м, в Соединенные Штаты, я не рассчитывал потеснить плотную шеренгу американистов. Хотелось одного: не разминуться с музой нашего репортерского ремесла—«первичной информацией». То есть писать прежде всего о том, что видел собственными глазами.
Двухкилограммовые воскресные Газеты — это здорово! Круглосуточное пятидесятиканальное телевидение—это прекрасно! И все-таки почему-то думалось, что высшая радость собкора — это взвесить событие в собственных ладонях, размять его своими пальцами, как пластилин, пока не ощутится внутренняя упругость и своеобразие материала, из которого слеплен чужой образ жизни. Индийский, британский или в данном случае американский.
А событие само шло в руки.
Перед отлетом позвонил Прудков, член редколлегии «Литературной газеты»:
— Обязательно загляни.
Олег Николаевич, как всегда, озарял свой кабинет броским галстуком, но лицо у него было напряженное. На усталость понедельника, сумасшедшего дня, когда подписывается в печать номер, накладывалась какая-то острая сиюминутная тревога, если не потрясение.
— На, почитай,— протянул он мне листок.
Записка была на бланке московской гостиницы «Интурист». Английские слова выстроились по диагонали листка — словно натужно лезли в гору.
«Уважаемый г-н редактор «ЛГ»!
Хочу, чтобы Вы узнали об ужасной истории, случившейся в моей стране в ноябре 1979 года, и что за ней последовало... Если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь в Нью-Йорке с ... (называлась фамилия, которую в целях безопасности источника я не привожу.— В.С.). Там располагают самой свежей информацией об этом деле.
Спасибо, (подпись неразборчива)
Туристская группа «Эниверсери туре».
— Как осядешь на новом месте, сразу за это... Сразу займись,— сказал Прудков.— Предварять твое расследование не буду, но знай: случай, действительно, мрачный. Есть кое-какие вырезки, снимки — прислали вместе с запиской. Но хочу, чтобы ты начинал без шор. Чтобы не давило чужое мнение. Копай сам! И копай глубже.
Я пообещал.
Но в первые же дни после приезда в Нью-Йорк стало ясно: журналистикой заняться в ближайшее время не удастся. Заедал быт. Расконсервировать корреспондентский пункт, после того как несколько лет там не было постоянного обитателя, оказалось не так-то просто.
Туристические проспекты любят именовать Нью-Йорк «большим яблоком» — намекают на обилие соблазнов. В то лето 1982-го яблоко показалось мне печеным. Город встретил влажной тропической жарой. Знаменитые небоскребы Манхэттена раскалились, как поставленные на попа огромные утюги.
Кондиционеры воздуха в корпункте не работали. Скромная квартира, арендованная много лет назад в старом, сложенном из бурого кирпича доме, что глядится в реку Гудзон, напоминала парилку. В горячем тумане по комнатам порхали какие-то невиданные летающие тараканы. Моя бедная жена Елена, ожидавшая от высокоцивилизованной Америки чего угодно, только не этого, вела с иностранными насекомыми отчаянный бой подручными средствами. Но до триумфа было далеко.
В довершение всего взорвалась газовая плита. Один наш хороший знакомый, советский собкор, решил было показать новичкам, как надо обращаться с заморским нагревательным прибором. В ответ тот грохнул, выплюнув облако сажи и огня. Выбило окно на кухне, но, к счастью, никто не пострадал. Пока осколки сыпались с 13-го этажа звонким хрустальным дождичком, в задремавшем доме распахивались окна: опять убийство? снова взлом?
Взрыв случился по вине домовладельца. Тот выискивал разные способы, чтобы выкурить жильцов-арендаторов и превратить дом в так называемый «кооп», то есть распродать квартиры поодиночке. В Нью-Йорке произошел немыслимый скачок цен на жилье. Между тем мое родное Агентство печати Новости, строго следуя контракту, продолжало платить за корпункт лишь несколько сотен долларов в месяц.
Домовладельца такое положение тяготило, душу его посещало некое чувство пустоты, свойственное, видимо, и его банковскому счету. Неприбыльный контракт надо было взорвать. И взорвали — в буквальном смысле.
Поиск новой квартиры оказался делом затяжным, мучительным. Так в необходимых, неотвратимых заботах мелькали дни. Но где-то в уголке сознания пульсировала мысль: с командировкой тянуть нельзя, расследование надо вести по горячим следам.
Чужая трагедия звала в путь, на помощь.
И день настал. Едва слышно урча восьмицилиндровым моторищем, корпунктовский «олдсмобил» пошел считать мили по скоростной автостраде. Дорожные знаки — белые стрелы на зеленом фоне — вели меня из Нью-Йорка на юго-запад.
Скоро ли Гринсборо?
88 секунд
...Дождя нет, но приходится включить фары и «дворники» Город увяз в тумане. Его влажную вату продирает то корпус текстильной фабрики, то шпиль масонского храма.
А это что за здание? По черному глухому фасаду скачет, мчится, не может кого-то догнать барельеф всадника. Главный почтамт Гринсборо, штат Северная Каролина. Художественно оформлен с целью намекнуть на скорую доставку корреспонденции. Наш гонец спешит обрадовать вас доброй весточкой!
К Марти Нэтан та весть, конечно, пришла не по почте. Она пришла с прикосновением. Так бывает.
Марти, молодой доктор, недавно с университетской скамьи, сидела в тот день во дворе и гадала, начался уже или нет марш протеста против ку-клукс-клана. Туда отправился ее муж, тоже врач. Они оба сошлись в профессиональном мнении, что Марти ходить на демонстрацию лучше не стоит. На шестом месяце беременности в толпе мало ли что может случиться.
Денек был чудесный, пока не взвыли сирены. Пока не пронеслись мимо, не ослепили мигалками полицейские машины. Пока прибежавший оттуда, с места сбора, друг не взял ее за руку. Его пальцы были в чем-то липком, уже холодном...
— Майк!—закричала она, точно зная, что с мужем стряслось непоправимое.— Моего Майка...
Друг отвел глаза:
— В голову... Но только ранили! Он жив. Дышит..
Нет, они убили его. Через два дня Майк скончался у нее на руках. Дочка не увидела отца.
А великолепный каменный ковбой все скакал по фасаду казенного дома, разнося горожанам отрадные вести.
— Здесь! Вот на этом перекрестке...
Марти наклоняется вперед, к ветровому стеклу Сквозь марлю тумана всматривается в страшное, ненавистное для нее пересечение Карвер-драйв и Эверит-стрит. Я ставлю автомашину к бровке. Мимо проскакивает и замирает метрах в двадцати другая, с не раз попадавшимся на глаза номером. За нами следят. Иным пикантным службам почему-то не по вкусу журналистский интерес к событиям недавнего прошлого.
А произошло вот что. 3 ноября 1979 года здесь собрались демонстранты, чтобы призвать город: «Покончим с ку-клукс-кланом!» Кому как не бедной негритянской окраине Морнинг сайт знать, что творит клан в последние месяцы. Белые балахоны обнаглели. Вербуют простаков и разный сброд средь бела дня прямо у входа в кинотеатры. По Северной Каролине, Миссисипи, Луизиане катится волна расистских расправ
Назвать вслух убийц самое время.
Около сотни участников протеста готовятся выступать. Распределяют, кому нести плакаты, кому раздавать листовки. Весело бренчат гитары.
Кругом играют дети, много детишек. Белые и черные, еще не видавшие на своем веку горящих крестов и не разделенные этим чадящим огнем ненависти.
11.18 утра.
— Вот отсюда подкатывает караван машин. Девять машин...— голос Марти дрожит. На нее лучше сейчас не смотреть. Прекрасное, тонкое — иконы бы с него писать — лицо белеет гипсовой маской.— Нагрянули не только клановцы. С ними дружки, члены нацистской партии. Орут: «Смерть коммунистам и ниггерам!» ...Вдруг выстрел в воздух — сигнал, значит. Клановцы выскакивают с кастетами, с фомками — и на наших!
Это была только разминка перед расправой. Опять по сигналу семь из девяти машин развернулись и удрали. Остался синий мятый «форд» и желтоватый пикап.
События следующих 88 секунд известны мне не хуже, чем Марти. Ужас этих мгновений пережили миллионы американцев.
По периметру побоища,будто на углах ринга, расположились операторы четырех телевизионных станций и снимали, снимали, снимали...
Эти километры видеопленки можно гонять взад-вперед с разной скоростью и показывать стоп-кадрами. Убитые будут воскресать. Раненые — отмываться от крови, заживлять свои раны. Где еще истребление жизни стало в такой степени публичным зрелищем, что последний вздох можно показывать с четырех ракурсов?
Видно, действительно, прекрасно. Оставшиеся клановцы и нацисты устраиваются у пикапа поудобнее, вскидывают ружья. В зубах дымят сигареты. После выстрелов перезаряжают лениво, не торопясь. Ни от кого не прячутся. Стреляют только прицельно. Явно знают, кого в этой мятущейся толпе надо утешить свинцом.
А вот и полиция. Примчались наконец голубчики восстановить мир и порядок. Но что это? За машинами клановцев не гонятся. Хватают раненых демонстрантов. Три жертвы расистского разбоя арестованы за «мятеж».
Чудно вышла на видеопленке зеленая, свежая травка. У крови тоже сочный цвет. Даже есть какая-то композиция. Как говорят киношники, ритм. Пять тел на траве. Застыли над телами скорчившиеся от горя фигуры. Конец фильма.
Но не конец нашего с Марти расследования, как готовился и какую цель преследовал расстрел в Гринсборо.
— А полиция? — спрашиваю я.— Ведь ей заранее было известно, где собираются демонстранты. Она выдает бумагу с разрешением. Почему же не охраняли?
— Охраняли?!! — вскрикивает Марти. Нельзя понять, смеется она или рыдает.— Не клан убил, власти отстреляли, как оленей, пятерку наших вожаков. Знаете, кого убили?
Я знаю. Знают и те серые, неприметные типы, что невзначай проходят мимо, кося глазом внутрь нашей машины. Сейчас один — в синей куртке, а другой — в свитере. Теперь поменялись. Этот в свитере, тот—в куртке.
Туго что ли с гардеробом в ФБР?
...Летопись рабочего движения в Северной Каролине издавна запятнана кровью.
В 1929 году штрейкбрехеры убили Эллу Мей Виггинс, мать пятерых детей — она стояла в пикете у фабричных ворот в городе Гастония. Сотни забастовщиков были тогда брошены в тюрьмы. Власти учились, как сокрушать тягу рабочих к организованной борьбе, к созданию профсоюзов.
Выучились.
В 1930 году, когда забастовали текстильные фабрики «Коун миллз», все уже шло как по маслу. На крышах цехов сноровисто поставили пулеметы. Фабричному начальству, надсмотрщикам раздали револьверы. Смутьяны, которым вынь да положь профсоюз, получили кое-что другое — увольнительные. Сколачивайте свои ячейки на круглосуточном досуге!
Год 1958-й.
Восстали против потогонных норм и бесправия заводы «Гэрриет—Хендерсон» в городе Хендерсоне. На этот раз расправа была просто загляденье — хоть в полицейских учебниках описывай. На забастовщиков спустили пятую часть всей полиции штата. Для охраны штрейкбрехеров выделили отряды национальной гвардии. Рабочих лидеров обвинили в «заговоре», и — в тюрьму.
Профсоюз размозжили прикладом.
Благодаря этим умелым и своевременным действиям властей Северная Каролина остается в механизированной, компьютеризированной и до удивления передовой Америке заповедником чуть ли не крепостного труда. В восьмом по промышленному развитию штате право быть членом профсоюза отвоевала себе лишь горстка рабочих — 8 процентов.
Остальные — разрозненная, неорганизованная масса.
Светлые головы в штабах корпораций не пожалеют денег и пуль, чтобы все оставалось так и дальше. Выгода для них очевидна.
Взять, например, текстильную промышленность — главную отрасль, где занята половина всей рабочей силы. Воскресни сейчас ткачиха Элла Мей Виггинс, мало нашла бы она в цехах перемен. С зарплаты текстильщика по-прежнему в банк не отложишь. На фабриках свирепствует болезнь, которую здесь прозвали «бурое легкое». Но хозяева отказываются признать ее профессиональным недугом.
Отлученный от профсоюзного движения штат—рай и для прочих американских монополий. Микроэлектроника, автомобилестроение бегут от экономического кризиса с Запада и Севера в Северную Каролину. Слетаются как мухи на мед на относительно дешевую рабочую силу, на ее традиционное бесправие.
Власти штата, конечно, поощряют таких новоселов. Оживленнее бизнес — выше налоги. А их опять-таки можно вложить в машину репрессии против тех рабочих, кто мечтает об организованной борьбе, о профсоюзах.
Круговорот насилия в природе капитализма.
Помышляющие нарушить эту отлаженную систему сортируются властями на категории агентов мирового коммунизма и спятивших идеалистов. И те и другие явно устали жить.
Кто же были те пятеро, что остались лежать на окраине Гринсборо?
Сэнди Смит начинала прядильщицей на одной из 17 фабрик уже знакомой нам текстильной корпорации «Коун миллз». В 1976-м собрала товарок в организационный профсоюзный комитет. К следующей весне он набрал такую силу, что работницы обратились к Объединенному профсоюзу швейников и текстильщиков. Просили создать на фабрике «лоукал»—то есть местную профсоюзную ячейку.
Сэнди избрали председателем комитета. Она поднимала народ на протест против вредных условий труда, ядовитых химикатов. И против главного зла — расизма, который дробил, раскалывал рабочие организации по цвету кожи.
В тот день, 3 ноября, клановец ударил Сэнди по голове фомкой. Она поднялась, собрала детишек в кучу, прикрыла их своим телом. В следующую секунду пуля попала точно в лоб. Будто кто-то заранее пометил Сэнди черным крестом...
Билл Сэмпсон работал в красильне другого завода «Коун миллз» в местечке Уайт-Оукс. Температура здесь круглый год, как в сауне. Отравленный пар морит человеческие лица в сизый, мертвенный цвет. Выбор перед рабочими стоял такой: или в профсоюз — вместе биться за сносные условия труда, или не в очень отдаленном будущем — в инвалиды.
Как и Сэнди Смит, Сэмпсона избрали вожаком организационного комитета. Фабричные боссы тут же предложили ему и другим белым красильщикам повышение зарплаты. Одновременно начали увольнять из цеха активистов-негров. Опять черно-белая игра.
Сэмпсон на подкуп сам не поддался и раскрыл глаза другим. Он вел людей к пониманию рабочей солидарности. Еще немного, и на фабрике возникла бы профсоюзная ячейка.
Билл Сэмпсон не учел только, что заряд, выпущенный из современного винчестера с близкого расстояния, проламывает кирпичную стену...
У трех остальных, кто остался лежать на перекрестке Карвер-драйв и Эверит-стрит,— схожая судьба. И схожее призвание—раскрыть людям глаза на необходимость организованной борьбы.
Джим Уоллер, закройщик фабрики в городке Хо-Ривер, сумел объяснить друзьям, что десять снижений зарплаты за три года—это грабеж. Пошли забастовки. Одновременно профсоюзная ячейка выросла там с двенадцати человек до двух сотен и избрала Джима своим вожаком.
Сизар Кос, оператор ЭВМ в госпитале Дьюк, созывал митинги, распространял среди медперсонала листовки. Мечта у него была та же — профсоюз.
Майк Нэтан, муж Марти, занимался тем же в клинике для бедняков в Дареме. Ему удалось наладить связь с профсоюзом докеров. По этой цепочке трудовой солидарности в Зимбабве, в помощь победившим борцам за свободу шли медикаменты и одежда.
На лужайке тогда, 3 ноября, собралось около сотни демонстрантов. Расстреляна только эта пятерка. Случайность?
— Клановцы и нацисты — удобный инструмент,— говорит Марти Нэтан.— Дубина, которой громят профсоюзное движение еще в зародыше...
Видеофильм побоища подтверждает ее слова. На одном из кадров потный, искренне довольный собой — славно постарался! — нацист бормочет в репортерский микрофон:
— Все! Конец этим треклятым союзам...
А кто спустил исполнителям наряд на убийство?
Кто ставил черные кресты: «Прикончить этого, этого...»?
Назначенные властями следователи наткнулись на поразительные факты. Точнее, они не сумели их скрыть.
Обнаружилось, что еще за четыре месяца до побоища в общине местных нацистов объявился пышущий энергией, ладно сбитый новичок — некто Бернард Баткевич. Френч со свастикой—так члены партии облачались на каждое собрание — сидел на нем без морщинки. Оно и понятно — на секретную полицейскую службу тщедушных не берут.
Баткевич был штатным офицером Бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия (БАТФ).
Есть такое подразделение государственной охранки, занимающееся борьбой с контрабандой и прочим беззаконием в очерченной названием области. К нацистам Баткевича вроде бы заслали, чтобы прощупать, нет ли у них, не дай бог, оружейного арсенала.
Но Баткевич почему-то занялся другим. Главарь «коричневых» Гэрольд Ковингтон на следствии показал:
— Он твердил, что надо набивать руку на стрельбе. Учил, как можно без хлопот переделать полуавтоматическую винтовку в автоматическую. А потом вообще стал таскать нам автоматические обрезы, говоря, что это прибавит партии боевитости...
Ближе к расправе у Баткевича появилась совсем блестящая идея: надо нам, нацистам, побрататься с куклуксклановцами. Объединить силы. Такой Объединенный расистский фронт и был создан на сходке белых балахонов и «коричневых» в конце сентября.
Как вскрылось много позднее, власти с одобрением внимали каждому слову и тех и других—под френчем у Баткевича работал радиопередатчик.
Вооружив расистов и отшлифовав с ними план нападения на демонстрацию, казенный провокатор исчез. Но вынырнул сразу после бойни 3 ноября. Посоветовал одному из нацистов срочно спалить свой дом, чтобы свалить все на «коммунистических смутьянов». Хотел устроить этакий миниподжог рейхстага.
На суде над шестью убийцами в ноябре 1980 года Баткевича не было ни в качестве обвиняемого, ни в качестве свидетеля. Кровавая история и тайная государственная служба? Помилуйте, какая здесь связь!
Не предстал тогда пред очи американского правосудия и Эдвард Досон, куклуксклановец и, как обнаружилось, по совместительству платный осведомитель ФБР. А ведь именно он, Досон, возглавил погромщиков 3 ноября. Выезжая на дело, дважды звонил в полицию: «У наших — ружья!»
Ему, видимо, ответили: «С богом!» Иначе трудно объяснить, почему за караваном расистов кралась десятая машина с полицейским сыщиком Джерри Купером. Тот усердно снимал убийства на фотопленку, но не ощутил ни служебного, ни морального позыва предотвратить преступление.
Не нужно было его предотвращать — вот в чем дело.
Цель была другая — перестрелять рабочих лидеров. Полицейские службы деловито, по четкому плану использовали ку-клукс-клановское и нацистское отребье — благо оно разбухло на дрожжах здешней демократии,— чтобы обезглавить профсоюзное движение в Северной Каролине.
Полиция-то и подбросила убийцам фотоснимки намеченных жертв.
Из показаний Кристофера Бенсона, клановца и опять-таки осведомителя ФБР:
— Мы расселись вокруг фотографий, и Верджил Гриффин («великий дракон» ККК в Северной Каролине.— В.С,) показал нам, кого нужно убрать, когда прибудем в Гринсборо...
Получили приказ. Изучили задачу. Свершили.
И что же теперь — наказывать молодцов? Суд присяжных начисто и безусловно оправдал всех шестерых убийц. На видеозаписи они ведут хладнокровный, прицельный огонь по людям. На бумаге судебного решения — предстают «случайно проезжавшими мимо места событий гражданами, вынужденными воспользоваться правом на самооборону».
Присяжным, значит, виднее. А кто они, кстати говоря, эти присяжные?
Ближайший сосед «великого дракона». Кубинский эмигрант, участвовавший в налете в заливе Кочинос. Отставной полицейский с 14-летним стажем... Набрали жрецов правосудия.
Лица официальных чинов лоснились тогда от удовлетворения свершившимся. Имея в виду «кровавую субботу» в Гринсборо, такой сугубо официальный чин, как районный прокурор, заявил прессе:
— Коммунисты получили то, что они заслуживают.
Белые балахоны тоже получили свое — ничем теперь не стесненную, юридически подтвержденную свободу творить насилие по всей Северной Каролине и окрест.
И пошло. Сразу после суда «черномазым» воздали за все сторицей. В городе Дареме клановец сбил насмерть автомашиной Честера Римса. Водитель был очень огорчен, что темнокожий Римс гуляет по улице с белой женщиной.
В Моргантоне другой боевик ККК застрелил старика негра за то, что тот «ехал слишком медленно». С 1980 года только в Северной Каролине зарегистрировано 129 случаев расистских расправ, нападений. Ку-клукс-клановский крест заполыхал вовсю.
...Ураганный ледяной ветер полирует мраморный обелиск. Мы стоим с Марти у братской могилы на городском кладбище в Гринсборо. Пять имен. Пальцы Марти скользят по ложбинкам дорогих для нее букв «Майк Нэтан». Надпись у подножия обелиска зовет: «Живите, как они! Осмельтесь на борьбу! Дерзайте ради победы!»
Марти говорит мне, что позорное судебное решение всколыхнуло страну. Борцы за гражданские права, церковные приходы, антирасистские группы — все они буквально завалили министерство юстиции требованиями: новый судебный процесс, и немедленно! Нет слов, чтобы отблагодарить Джессику Сэвидж, знаменитую журналистку телесети Пи-би-эс. Ее страстный фильм «88 секунд в Гринсборо» потряс, буквально поднял на ноги ужаснувшихся американцев. Народ зачитывался и разоблачительными репортажами в газете «Берлингтон таймс». Хотелось бы сказать спасибо журналистам. Только поздно...
Мы стоим с Марти на ледяном ветру и смотрим друг другу в глаза.
Репортер и фотограф «Берлингтон таймс» погибли в загадочной автомобильной катастрофе, возвращаясь после интервью с одним из свидетелей расстрела в Гринсборо.
Телезвезда Джессика Сэвидж разбилась вскоре. Тоже «дорожная авария».
— ФБР? — спрашиваю я.
—- Сомнений мало. Это наша жизнь...
День лояльности
Каждый вечер после встреч с Марти и ее друзьями меня ждет мотель на окраине Гринсборо — на скромные командировочные в центре не поселишься.
Одноэтажное угольником здание словно склеено из фанеры. Яростные порывы ветра выпучивают, надувают стену, будто парус. Но внутри предельно рациональный американский уют. Укрепленный под потолком телевизор — здесь. Альков для крохотной электрической плиты—там. Архитектор рассчитал все до миллиметра.
У каждого номера свой выход на улицу. Перед дверью на асфальте очерчен прямоугольник — сюда нужно запарковать автомашину. Тоже удобно: из окна видно, не крутится ли кто рядом, ночью багажник не взломают.
Безукоризненно отлаженная система гостиничного сервиса ласково обволакивает заботой. Между одиноким мотелем в пригороде и трагедией расстрела в Гринсборо начинает расти какая-то незримая стена.
Конечно же, «кровавая суббота» была, стряслась, произошла. Но неужели в этом веке? Неужели в наши дни, когда Америка опоясала себя лентами скоростных автострад, одомашнила компьютер и научилась строить вот такие, продуманные до последнего гвоздика мотели, где уютно путнику даже без особого достатка?
А вот и око властей. Занавеска в окне соседнего номера отодвинута. Крепкий, атлетически сложенный детина закинул ноги на журнальный столик. Видать, расположился надолго. Да, так оно и есть. Как бы поздно мы с женой ни возвращались в номер, в черном провале окна светился огонек сигареты. Временный пост ФБР не дремал. И можно было только поразиться мужеству Марти Нэтан, Дейл Симпсон, других вдов, заезжавших за нами в мотель, коротавших с «красными» поздние часы в придорожном ресторанчике.
У Марти подрастала дочь. У Дейл—двое ребят. Тайная власть, обнаруживающая себя зрачком сигареты во тьме, отняла у них отцов. Но сказать, что терять им было уже нечего,— не скажешь. Чем жили тогда вдовы, близкие, соратники тех, кто не встал с окровавленной травы Гринсборо в 1979-м,—так это надеждой на торжество справедливости. А надежда страха, видно, не знает. Пренебрегая ежедневной слежкой за нами, друзья показывали родной город.
Гринсборо красив, печален и пустынен.
В конце восемнадцатого века здесь гремели пушки генерала Натанаэла Грина, героя войны за независимость. Он-то и дал позднее имя поселку. Туристический справочник утверждает, что в Гринсборо полтораста тысяч жителей. Но поверить в это трудно. Даже днем казалось, будто мы — единственные пешеходы на узких, давно забывших о своем предназначении тротуарах.
Как и повсюду в американской глубинке, здесь живут одни автомобили. Они разговаривают друг с другом гудками клаксонов, обедают на бензозаправках и прогуливают по центральным улицам свой сверкающий никель.
Город тысяч автомобилей и четырех вдов—таким запомнился мне Гринсборо.
И еще — как обитель человека по имени Уильям Сидни Портер, которого весь мир называет О'Генри.
Да, он провел здесь свои молодые годы, этот знаменитый американец, мастер грустных и удивительных своими неожиданными концовками рассказов, автор «Королей и капусты», а тогда, в семидесятых годах XIX века, просто школьник и мальчик на побегушках в дядиной аптеке.
В историческом музее Гринсборо можно увидеть уголок этой аптеки в натуре. Банки для пиявок. Тазы для кровопускания. А стены — в карикатурах юного Билла на медицинские темы. Вот пациент в ночной рубашке свесил с кровати голые ноги и отбивается от кошки саблей. Горячечный кошмар больного? Вот доктор в котелке, с саквояжем летит на вызов, махая вдруг выросшими за спиной, как у ангела, крылышками.
О'Генри рисовал с тем же юмором, что и писал. В Гринсборо, говорят, не было горожанина, которого бы он не мог изобразить на редкость похоже.
— Кто-нибудь заходил без меня? — бывало спрашивал племянника, вернувшись с обеда, Кларк Портер.
— Да был кто-то, хотел оплатить по счету.
— Кто такой?
— Да вот...— и карандаш стремительно скользил по бурой оберточной бумаге.
— А! — узнавал старик Портер.— Это же Том, Том Дженкинс, он должен мне семь долларов...
Рядом с аптекой воспроизведена классная комната в школе мисс Эвелин Портер, тетки О'Генри, где тот учился без малого десять лет.
Грифельная доска с двумя скамейками. Три ряда темных, изрезанных ножами, залитых чернилами парт. В углу печка. Отправляясь отвечать урок, озорник Билл любил мимоходом бросить на теплый чугун каучуковую пуговицу. Жевательную резинку тогда в Америке еще не изобрели — приходилось мастерить самому.
В музейной витрине я нашел несколько томиков писателя, изданных на русском языке. Рядом хранится письмо директора музея каким-то местным властям. Он жалуется: родина О'Генри не удосужилась почтить великого новеллиста почтовой маркой по случаю столетия со дня его рождения. А Советский Союз тогда, в 1962-м, такую марку издал. «Стыд нам и срам!» — сокрушается директор.
Музейная экспозиция проскакивает мимо кое-каких зигзагов в непростой, богатой, как и его рассказы, приключениями судьбе О'Генри. Помните, в одной из новелл банкир возводит напраслину на своего компаньона — обвиняет в хищении денег? Сюжет автобиографичен. В 1898 году О'Генри повздорил с американской Фемидой — ему дали пять лет тюрьмы по довольно расплывчатому, так до конца и не доказанному обвинению в растрате.
«Рассказы притаились везде»,—сказал однажды писатель. Отрочество в Гринсборо, тюремная одиссея — все это вплелось в ткань его повествований, этих бриллиантов американской словесности, отшлифованных глубокой симпатией к беднякам, к отверженным.
Смешное у О'Генри — всегда маска клоуна, за которой проглядывают плачущие глаза. Этакая веселенькая прихожая в ад народных страданий.
Возвращаясь из музея в свой мотель на окраине, под опеку соглядатая ФБР, застывшего у отодвинутой занавески соседнего окна, я думал о том, на какую трагическую новеллу вдохновила бы О'Генри расправа с пятью рабочими вожаками Гринсборо, расстрел властями в упор души и совести его родного города...
... 9 января 1984 года в Уинстоне-Сейлеме, поселке в 30 милях от Гринсборо, открылся новый судебный процесс. Вырвали-таки его у властей. Правительство Соединенных Штатов Америки против девяти обвиняемых. Пятеро из бывших, трое новых плюс Эдвард Досон, тот самый провокатор.
Естественно, ни о каком соучастии полиции, ФБР и прочих государственных служб в преступлении 3 ноября 1979 года речь на суде не шла. Государственный прокурор повернул дело в сторону гражданских прав. Обвинение сформулировали так: сговор с целью нарушить гражданские права участников демонстрации, имевших на нее законное разрешение.
Ничего себе «нарушение» — пустить человеку пулю в лоб!
Но это еще не все. Чтобы доказать виновность клановцев и нацистов, прокурор должен был убедить присяжных, что участники нападения руководствовались расовой ненавистью. Таковы законы, привлеченные обвинителем. Защита, не будь дура, в свою очередь твердила: нет, никаким расизмом тут не пахнет. Двигало этими добрыми людьми иное, неподсудное—ненависть к коммунистам, ко всяким «красным» и марксистам, а также мощное чувство патриотизма.
А это совсем другое дело. Тут никаких противоречий с законом и даже официальной моралью нет.
Отрывок из речи защитника:
«Господа присяжные заседатели! Вам предстоит услышать невероятно много насчет того, что Ролланд Вуд (один из обвиняемых.— В.С.) был главой местного отделения нацистской партии. Но он гражданин-патриот. Подумайте о Вернере фон Брауне. Вернер фон Браун был нацистом, но никто не спросил его о политических взглядах, когда мы сделали его высокопоставленным администратором НАСА. Он дал старт нашей космической программе. Нацисты поставили все на карту и проиграли все в своем столкновении с коммунизмом. Не выглядят ли они сейчас намного более привлекательно, чем в конце войны?
Мои подзащитные — патриотичные граждане. Вот почему они отправились в Гринсборо, чтобы остановить коммунистов».
Господа присяжные, открыв рот, внимали защитнику. На этот раз никто не знал, кто они, эти носители абсолютной справедливости. Памятуя скандал с подбором присяжных в 1980 году, процедуру теперь засекретили. Завязали глаза не Фемиде—общественному мнению...
Мы с Марти Нэтан думали так: убийц-расистов, конечно, признают виновными, не могут второй раз раздавить надежду на хоть какую-то справедливость. Но срок приговора будет скромным. Нельзя же обидеть соучастников полицейской операции против профсоюзов.
Включаю телевизор. Сейчас должны огласить итог трехдневных раздумий присяжных. Внутрь суда телевизионные камеры в Северной Каролине не пускают. Репортер дежурит у подъезда. Передача идет «живьем» — что произойдет, то и покажут.
С треском распахиваются двери. Испитая физиономия Эдди Досона сияет, как надраенная пряжка. Патриот, он же нацист, Вуд падает на колени, воздевает руки к небу:
— Хвала всевышнему! Невиновны!
Невиновны?! Не верю ушам своим. Репортер тычет микрофоном в подбородок «великому дракону» Гриффину:
— А если завтра? Если завтра опять соберутся демонстрировать против клана? Отправитесь туда, а? Нагрянете опять, а?
— Мы уже готовимся к митингу. Обсудим планы,— солидно молвит «дракон». Опять получил правительственный «о'кей». Опять потянутся за привидениями в балахонах кровавые следы...
Нет, не всевышнему возносят в душе хвалу жрецы расистской ненависти. Славят они своих земных единомышленников, подгадавших оправдать их под Первое мая. Удачно-то как получилось. Президент как раз распорядился переделать этот дьявольский праздник какой-то «рабочей солидарности» в общенациональный День лояльности. Призвал сознательных граждан присягнуть на верность истинному патриотизму.
Не объяснил только, о каком патриотизме речь. О том, что минирует по ночам гавани Никарагуа? Что охраняет тылы, пока сальвадорские «бригады смерти» превращают крестьянские дома в склады трупов? Праздниками лояльности прошлым и нынешним обитателям Белого дома были день казни на электрическом стуле супругов Розенберг, день убийства Мартина Лютера Кинга, день подстроенного американской разведкой расстрела демократии в Чили.
Их много в истории США, этих дней, когда бравый шовинизм подтверждал свою верность верхам пулей, пущенной в порядке аргумента в инакомыслящую голову.
Первого мая 1886 года разогнали свинцом демонстрацию рабочих в Чикаго.
3 ноября 1979 года расстреляли рабочих вожаков в Гринсборо.
Америка меняется мало.
Но летопись трагедии на этом не оборвалась. Через год позвонили друзья:
— Начинается новый суд. Приезжай.
Третий судебный процесс по делу об убийстве «северокаролинской пятерки»!
Первые два дела против нацистов и клановцев, как мы помним, возбудило само государство. Новый судебный процесс — не уголовный, а гражданский. Иск подали вдовы убитых, их близкие, те, кто был ранен, но остался жив. На скамью подсудимых удалось усадить не только козлов отпущения, как раньше, а целую группу причастных — 61 человека. Среди них — полицейские, агенты ФБР, агенты БАТФ.
Впервые обвинение сформулировали по-честному: содействие вооруженной атаке, ее поощрение со стороны властей.
Марионеток судили заодно с кукловодами. Отсюда новая психологическая атмосфера. Уже в ходе первых слушаний Кристофер Бенсон, один из клановцев и осведомитель ФБР, «раскололся».
— Раньше я был неправдив,— интеллигентно молвил он.
— Почему же?
— Меня запугали. У нас в ку-клукс-клане существует еще так называемый «подпольный клан». Эти-то вооруженные боевики и идут на страшные дела...
Свидетели приперли к стене и другого подсудимого — Бернарда Баткевича. В который раз подтвердилось, что этот кадровый сотрудник БАТФ действовал как провокатор. Накануне расправы твердил нацистам и клановцам: «Я бы в Гринсборо без заряженного ружья не поехал...»
Казалось бы, все в порядке: новый суд, новые улики. Но героиня моего репортажа из Гринсборо Марти Нэтан не пускала в сердце надежду.
— Конечно, суд впервые коснулся подлинных обстоятельств убийства,— говорила она мне.— Но посмотри, куда клонят защита, пресса...
А уклон действительно любопытный. Замечание еженедельника «Ньюсуик»:
«Перед истцами неимоверные практические трудности... Их юристам нужно заставить присяжных увидеть в мертвых жертвы, а не экстремистов, заслуживающих смерти».
Под словечком «экстремист» здесь подразумеваются профсоюзные вожаки, люди демократических убеждений, коммунисты.
Иными словами, журнал вскользь, как само собой разумеющееся, подтверждает простенькую философию этой «плюралистической» Америки:
Инакомыслящий? Заслуживаешь пули.
Конец истории такой. Суд обязал городские власти выплатить Марти Нэтан—только ей и никому из других вдов и родственников погибших— жалкую сумму, едва покрывшую расходы на адвокатов. Откупились от истины, от прав человека.
А накажут ли полицейских, агентов ФБР, великих драконов и маленьких американских фюреров?
Когда шефа гринсборовской полиции Конрада Уэда спросили об этом после суда, он долго не мог отдышаться от смеха.
Да, Америка все-таки меняется мало...

2 Когда кончается карнавал
Почему негров хоронят под джаз? Потому что все радуются: покойник отправился в рай. Второй раз в ад господь не пошлет.
Народное новоорлеанское поверье
Час забытых забот
Когда позади осталось две с лишним тысячи миль, на часах было половина третьего ночи, в бензобаке — последняя капля горючего, я въехал в этот невероятный, похожий только на самого себя город.
Точнее, воспарил над ним. Шоссе Интерстейт-10 кончилось виадуком, подвешенным на столбах над улицами. С птичьего полета городские огни казались россыпью розовых жемчужин. Будто какой-то ювелир вдруг опорожнил мешочек на черный бархат, чтобы потрясти покупателя.
Громадина отеля «Шератон» светилась вся до последнего окна, хотя люди должны были видеть седьмой сон. Небоскреб нефтяной фирмы «Экссон» тоже сиял, хотя там, конечно, в такое время никто не делал доллары.
У входов в кабачки и дискотеки толпились шумные группки подростков. Били барабаны, рвались шутихи. А мой автомобильный приемник буквально распирало от восторженнотревожной скороговорки диктора местной радиостанции:
— Какое чудесное времечко для всех, кто оказался сегодня в нашем городе! Но и время, когда стоит проявить крайнюю осторожность. Как легко увлечься безумием момента! А ведь именно тогда нас покидают логика и здравый смысл...
Меня, слава богу, не покинули. Из листовки здешней полиции, присланной еще в Нью-Йорк, я точно знал, что нужно делать. Немедленно поставить машину в гараж гостиницы, пока ее стекла целы, а улицы не перекрыты. Запереть все ценности в гостиничный сейф. И, главное, фотосумка! Как это сказано там в инструкции? «Ремень от сумки необходимо надеть через плечо, а саму сумку крепко зажать между локтем и телом — ни в коем случае не нести в руке. Грабители и карманники могут проявить активность...»
Пора объяснить «безумие момента». Портовый город Новый Орлеан — он в штате Луизиана близ Мексиканского залива—дождался наконец в эту ночь своего знаменитого на всю Америку ежегодного карнавала, именуемого «Марди гра». Переводите, как хотите: «Жирный вторник», «Тучный вторник».
Теоретически я, конечно, знал, что такое «Марди гра». Это праздник за сорок шесть дней до пасхи. Пик всенародного веселья, которое начинается недели на две раньше. Сутки бесчисленных парадов, балов, маскарадов. Безудержная разгульная вакханалия, которая прославила Новый Орлеан — во всяком случае у туристов — как «самый веселый город Америки».
Уокер Перси, известный исследователь фольклора, назвал «Марди гра» «органичным, животворным народным фестивалем, пожалуй, единственным в своем роде в Соединенных Штатах».
Это по книжкам.
А наяву...
Только-только начинает светать. Еще горят фонари, еще силуэты зданий едва угадываются на фоне сумеречного, пасмурного неба. А город уже встал, как солдат на перекличку.
Вдоль главной улицы Кэнал-стрит заняли местечки поудобней тысячи зрителей. Пришли целыми семьями со своими стремянками, со скамеечками.
Погода, правда, подкачала. Холодина, а не март месяц. Но у многих коробки со льдом, откуда торчат горлышки бутылок с кока-колой, банки пива. Не только пить, смотреть на них страшно, но, что поделаешь,—традиция. Карнавал-то весенний.
И какой карнавал! Куда ни глянешь, лиц нет—только улыбаются, гримасничают забавные маски. Словно какой-то Гулливер взял да и вытряхнул на улицы героев знакомых каждому книжек, фильмов, рисованных картинок-комиксов. Звездочеты водят хоровод с астронавтами — все-таки общность небесных интересов. Куражистый святой отец разгуливает под руку с миленькой монашенкой. Та, кстати, на сносях. Дерзкая пара!
А это что же такое? Целое семейство зеленых кузнечиков! С ними соперничают броскостью нарядов арестанты в полосатых пижамах с тюремными номерами на спинах. У толпы глаза разбегаются, не знает, кому аплодировать.
Папа-кузнечик все-таки завоевывает всеобщее внимание. Оно понятно: он, оказывается, заместитель мэра города, ему поручено принимать карнавальный парад. С другой стороны улицы вижу, как он поднимается на трибуны, устроенные на ступенях здания муниципалитета. Там смешных масок мало. Там бал без маскарада. Это сливки Нового Орлеана.
Знать города почтила своим присутствием грубоватое веселье толпы? Нет, не все так просто.
Начинается парад. Часа три я стою на промозглом ветру среди ликующих, вернувшихся на миг в детство людей и не могу разобраться в своих ощущениях.
Конечно, все, что творится передо мной, предельно красочно, увлекательно, почти фантастично. Торжественно влекомые тракторами, плывут гигантские платформы, изображающие то сказочные гроты, то королевские палаты. Сотрясают воздух своими ритмичными маршами джазовые оркестры. Таких блистательных традиционных импровизаций не услышишь больше нигде в Америке.
Но почему меня не радует эта искрометная музыка? Почему не весело, а, скорее, тревожно?
Что-то несправедливое, чуть ли не презрительное есть в главной церемонии «Марди гра». Существа на платформах осыпают плебс дарами. Я не случайно написал «существа». Как еще назвать эти странные фигуры с загримированными белилами лицами, смахивающие на актеров театра Кабуки. Царственными движениями они бросают в толпу горсти золотых и серебряных дублонов. Распластавшись в воздухе, летят гроздья цветных бус. Тяжело падают завернутые в фольгу кокосовые орехи.
На, веселись, чернь! На один денек вкуси от нашей пластмассовой щедрости! Позволь себе лицезреть снизу вверх наше лилейно-белое превосходство!
Поднимаю «золотой» дублон. Отштампован из дешевого легковесного сплава. Цветные четки закуплены оптом в Гонконге.
— Кто они? — спрашиваю у оказавшегося рядом негра с красным платком на худой, морщинистой шее.— Кто эти на платформах ... бледнолицые?
Тот потрясен моим невежеством.
— Как кто?! «Рекс», конечно. Третьего дня свой парад выводил клуб «Камус». А сегодня клуб «Рекс». Это днем, а вечером пойдут наши, черные богатеи. «Зулу» называется...
До поздней ночи город ходит ходуном. После двух парадов гулянье перемещается во Французский квартал, старинный район узких улочек и чугунных резных балконов. Балконы эти неизвестно почему не обваливаются под толпой ряженых.
Здесь, среди уюта старины, веселью как бы прибавляется разгульности, дерзкой удали. Вот идут какие-то полуобнаженные монархи с коронами из страусовых перьев. Свита несет за ними пестрые, сверкающие блестками шлейфы. Хочешь и ты стать королем на час? Пожалуйста! Тебя тут же преобразит за пару долларов бродячий гример—вон примостился со своими россыпями пудры и красок на ступеньках подъезда.
В витрине магазина выставили группу манекенов. Изображают святое семейство. Гроздья винограда, ломти хлеба, бутылка крови божьей. Кто-то внимательно читал библию. Я нацеливаюсь фотоаппаратом, уже спускаю затвор, как «манекен» подмигивает и показывает мне язык. И тут ряженые!
Вдруг бурлящая улица замирает—будто на штормовые волны выплеснули бочку масла. Все смотрят вверх. Там, на чердачном балкончике, подняла руки, словно готовясь к прыжку или взывая к господу, очаровательная юная девица в коротеньком вроде купального халатике.
— Давай!—ревет толпа.— Совсем! Совсем!
Та сбрасывает с себя халатик и остается в чем мать родила. Вздох потрясает древние стены Французского квартала.
Пируэт—и прелестница исчезает за дверью чердака, оставив после себя мечтательную тишину и еще долго закинутые вверх подбородки.
— Думаешь, гулящая?—весело крутит головой полицейский.— Ничего подобного. Постучишься завтра, а тебе скажут—в церковь ушла. Знаю я ее. Просто уж такой сегодня праздник великий. Сегодня все можно! И грех — не в грех...
Веселится Новый Орлеан. В этой крикливой пестрой круговерти лучше всего понимаешь, отчего прозвали его на всю Америку «городом, который забыли заботы».
Только не наоборот ли? Не он ли, порт на Миссисипи, хочет забыть о них на один-единственный денек?
Наутро город просыпается совсем другим. Постаревшим, испустившим свой хваленый дух безалаберности, как мячик, который проткнули гвоздем. В проемах подъездов, поближе к теплым щелям, спят бездомные. Им сегодня мягко — еще не успели убрать две тысячи тонн мусора, оставшихся после карнавала.
Утренние газеты деловито сообщают: вчера арестовано 279 человек. Поножовщина, торговля наркотиками, кое-кому не видать больше «Марди гра» — застрелили. Страшные новости? Нет, обычные новости.
В Новый Орлеан вернулись его старые заботы. Только и всего.
Снова смотрю на город как бы с птичьего полета, но уже солнечным, ясным днем. Новые американские знакомые зазвали меня на застекленную крышу небоскреба — Центра международной торговли.
Его недавно воткнули гигантским четырехгранным карандашом в самый берег Миссисипи.
Среди американцев меня заинтересовали двое. Кристофер Осакве — профессор права местного университета. Когда-то в знак гордой демонстрации своего рабского происхождения сменил американское имя на африканское. На самом деле Осакве бесконечно далек и от африканских корней, и от судьбы своего негритянского народа в сегодняшней Америке. Это богатый юрист с доходной практикой. Из тех, кого простой люд недобро зовет «черными буржуями».
По какой-то программе студенческого обмена Осакве, кстати, учился в Советском Союзе, неплохо говорит по-русски. Знание советского уголовного кодекса помогает ему до сих пор.
— Бывает, звонят вдруг из Москвы, из нашего американского посольства,— посмеивается юрист.— Выручай, говорят. Опять советские таможенники задержали американца: хотел ввезти контрабанду—триста пар джинсов. Что ему по советским законам полагается? Я консультирую...
Роберт Дей — тот в Новом Орлеане новичок. Всего год, как его, профессионального дипломата, перевели сюда из Вашингтона.
Говорим о вчерашнем карнавале, об исторических традициях самого празднества «Марди гра». Начал было интересоваться социальной ролью тех самых таинственных карнавальных клубов, как на моих глазах вдруг происходит нечто вроде стычки между собеседниками. И как раз на тему.
— Не люблю Новый Орлеан!—вдруг взрывается Дей.— Самое неприятное впечатление от здешней жизни. Общество закрытое, закупоренное, как барабан. Вот уже год здесь, а никуда не вхож, ни с кем не знаком...
— А где поселились?—как бы невзначай спрашивает Осакве.
Дей называет окраину. Юрист, который сам недавно перебрался в престижный район около университета, недобро улыбается. «Дорогой мой,— говорит эта улыбка,— вы хоть и дипломат, государственный чиновник из столицы, а на чековой книжке у вас, видно, не густо. Вот и бьетесь головой в закупоренный барабан. Не того круга вы, дорогой мой, не того клуба...»
— Их четыре, этих главных клуба,— загибает пальцы Осакве.—«Камус», создан в 1857-м, «Рекс» — в 1872-м, «Момус»—тоже в 1872-м. А год рождения «Протеуса» — 1882-й.
— Сами-то вы в каком состоите?—спрашиваю юриста.
Тот качает головой:
— Черным в эти клубы хода нет. Вне зависимости от твоего достатка...
Купите колонию!
Здесь, в древней системе клубов,— не только уникальность новоорлеанского быта, но и, как мне кажется, своеобразное разоблачение системы социального неравенства, царящей в Соединенных Штатах. Новый Орлеан — своего рода карикатура на нее. Общество так же четко разделено на слои, как это бывает порой с коктейлем, где ликеры не смешиваются, а легкие, дорогие вина пенятся на самом верху.
Всего карнавальных клубов, именуемых здесь «криу», около полусотни. Эти узкие, с секретным членством организации — по преимуществу только для белых и только для мужчин. Весьма напоминают масонские ложи. Именно они-то во многом и управляют политической и деловой жизнью города.
«В сущности,— признает один местный журнал в разделе, красноречиво озаглавленном «Связи»,— полный доступ в новоорлеанские деловые круги обусловлен главным образом членством в соответствующем «криу».
Еженедельник «Ю.С. ньюс энд уорлд рипорт» еще более категоричен: «Членство сына или зятя в «криу»—такая же святыня, передаваемая по наследству, как место на нью-йоркской фондовой бирже».
Мне рассказали, как два предусмотрительных папаши-миллионера уже внесли своих новорожденных отпрысков в списки на прием в члены клуба в ... 2004 году!
Стоит поторопиться, особенно если речь идет о четверке самых элитарных организаций. По словам Осакве, в «Камусе» всего триста счастливчиков, в «Рексе» — около пятисот. Своего рода разросшаяся царская семейка, которая правит современной, нефтеносной, технотронной Луизианой Причем, вроде бы в смешных масках ежегодного карнавала.
Любопытно, что местные летописцы связывают создание «Рекса» с визитом в Новый Орлеан великого князя Алексея Романова Тот, говорят, охотился на бизонов в Техасе и завернул в Луизиану вдогонку за своей тогдашней зазнобой американской актрисой Линдой Томпсон. Русская голубая кровь будто бы и вдохновила заокеанскую белую кость на сплочение. Этакая милая с точки зрения туристических проспектов солидарность угнетателей.
У черных новоорлеанских богатеев тоже есть свои «криу». В одном из них, «Бахусе», сумел устроиться знакомый нам Кристофер Осакве.
— Разовый вступительный взнос—тысяча долларов, каждый год еще пятьсот. Встречаемся на закрытых обедах... — односложно, без особой охоты рассказывает юрист.
Понятно, что происходящее на обедах—тоже кастовая тайна власти. Элита мыслит, как бы укрепить свое положение на горбе народа.
Над черными «криу» витает проклятие второсортности. Негритянская буржуазия приподнимает голову, но не может проломить потолок расизма. Казалось бы, мелкая, а красноречивая деталька: когда члены самого престижного черного клуба «Зулу» гримируются для парадов, они покрывают кисти рук и круги вокруг глаз белилами. То есть добиваются иллюзии, будто белый человек изображает темнокожего.
На Олимпе капитала бывшим рабам не место.
Роберт Дей подводит меня к прозрачной стене зала. Внизу изгибается желто-бурым питоном Миссисипи. Показав территорию Всемирной международной ярмарки, Дей кивает на западный берег.
— Видите серые строения?
Я насчитал четырнадцать огромных ангаров вроде самолетных. Что там?
— Империя Блейна Керна. Карнавальная империя...
Выясняется, что помимо прочего «Марди гра» — еще и грандиозный бизнес, на котором его воротилы пожинают ежегодно свыше 25 миллионов долларов. Блейн Керн — один из них. В ангарах у реки он держит сотни четыре карнавальных платформ и бесчисленное количество маскарадных костюмов. Он же чеканит грошовые «золотые» дублоны, приносящие еще 2 миллиона.
Но главное даже не в этом. Как ни прибылен сам «Марди гра», ему нет цены, как магниту, притягивающему в Новый Орлеан неиссякаемую лавину туристов. Международный туризм — вторая по доходам профессия города-порта.
Многое спрятано во внешне необузданной, легкомысленной стихии «самого веселого места Америки». И глубже всего, мне думается, гипноз социального братания, примирения богачей и голи, которым завораживают здешнего обывателя карнавальные церемонии «Марди гра».
Но после «Жирного вторника» всегда наступает «Пепельная среда». По католической традиции добрыеприхожане должны посыпать себя пеплом, скорбя о греховном, недостигнутом, несвершенном. А таких слез в Новом Орлеане, похоже, больше, чем воды в Миссисипи.
В только что вышедшем исследовании «Книга Америки: внутри пятидесяти штатов» социологи Нил Пиерс и Джерри Хэнгстром выносят свой приговор городу одной фразой:
«Под блеском Нового Орлеана... неимоверные проблемы нищеты, преступности, полицейских зверств и разлагающейся инфраструктуры...»
Социологи недоговаривают. Статистические исследования начала 80-х годов называют Новый Орлеан самым бедным из больших городов Америки.
Большой город... А ведь в начале XVIII века здесь не было ничего, кроме болот, кишащих крокодилами, змеями и москитами. Самое невероятное место для обитания. Чем привлекло оно французского колониста Жана-Батиста Ле Муа-на, который очертил здесь в 1718 году своим мечом неровный круг: «Быть селению!»?
Миссисипи делает тут резкий зигзаг, вырубая из болотистой низины серповидный кусок. По сути Новый Орлеан — остров, зажатый между рекой на Юге и вытянувшимся вдоль нее озером Понтчатрейн.
Город лежит ниже уровня моря. И по сей день лишь сложная система дамб и вечных тружеников-насосов спасает его от затопления. В дни весеннего паводка с улиц открывается фантастический вид на Миссисипи: баржи идут где-то на уровне твоих глаз.
Был ли Жан-Батист Ле Муан провидцем? Угадал ли он хозяйственное значение великой американской артерии, которая вырывается здесь к семи морям? Неизвестно. Во всяком случае, Франция приступила к освоению новой колонии с того, что начала сплавлять туда негодный человеческий материал — обитателей тюрем и кварталов «красных фонарей».
На стыке XVIII и XIX веков европейские державы играют Луизианой в пинг-понг. В 1762 году Людовик XV уступил колонию своему кузену по линии Бурбонов, королю Испании. Не успели луизианцы привыкнуть к денежной единице песо, как Наполеон Бонапарт принудил испанскую верхушку вернуть подарок по секретному договору 1800 года. На этот раз простой люд колонии не знал о свершившемся два года.
Собственно, чья Новый Орлеан собственность—дела не меняло. Порт продолжал бойко торговать с Вест-Индией и Европой. Но его истинное значение открылось с освоением американского Среднего Запада, с вторжением пионеров-колонистов в Огайо, Теннесси, Кентукки. Тогда-то стало ясно: Америка без Миссисипи, что сердце без артерии.
Прознав о тайной испано-французской сделке 1800 года, президент США Томас Джефферсон шлет депешу своему послу в Париже: «На земном шаре есть одно место, владелец которого наш естественный и давний враг. Это место — Новый Орлеан, открывающий доступ к рынкам для товаров с трех восьмых нашей территории...»
Посол пытается прояснить судьбу Нового Орлеана, но хитрая лиса Талейран уклончив. Тем временем планы Наполеона отправить войска в Луизиану срываются из-за того, что порты Бельгии и Голландии, откуда должна была отплыть экспедиция, скованы льдом.
Без войск колонию не удержать. Решение? Наполеону не откажешь в размахе: продать американцам не только Новый Орлеан, но и всю колонию за 15 миллионов новой валюты, именуемой долларом!
Как раз незадолго до этого в деловой переписке новоорлеанских купцов впервые появляется значок доллара «$»— латинское «S», начертанное поверх «Р», первой буквы слова «песо».
В декабре 1803 года над Новым Орлеаном взвился американский флаг. Штаты получили долгожданное, лакомое: устье Миссисипи вместе с огромной заболоченной низиной и Новым Орлеаном, где жили 8 тысяч человек. Половина — свободных белых граждан, а половина — черных рабов и «цветной» голи...
— Примерно сегодняшняя пропорция,— иронически бросает Майкл Форсайт, редактор популярной местной газеты с длинным названием «Таймс-пикайюн энд стейтс-айтем». Журналист охотно закуривает советскую сигарету: ну-ка, что за табаки у русских? Ох, крепки! Откашлявшись, продолжает:
— Да, пропорция почти не изменилась. Сейчас население Нового Орлеана 550 тысяч с небольшим. Среди них 55 процентов черных. Рабов? Формально говоря, конечно, нет. Голи? Свежему глазу виднее. Составьте собственное мнение. Я вам не указ...
С Форсайтом мы договорились встретиться в редакции. Но как ни кружил я на машине по городу, отыскать таинственный дом по адресу не мог. Отчаявшись, позвонил Форсайту с ближайшей бензоколонки. Тот тотчас приехал. Так что наш разговор начался под гул моторов и в мареве сладковатых испарений высокооктанового горючего.
— Между прочим, символичное у нас местечко встречи,— махнул журналист в сторону яично-желтых счетчиков бензоколонки.— Нефть, газ! Вот вокруг чего начинает вращаться экономика города. На заливе были? Весь шельф застолблен нефтяными вышками. Прямо вторая клондайкская лихорадка...
Нашествие нефтяных компаний-гигантов началось в 70-х, в годину энергетического кризиса, рассказывает Форсайт. Оказалось, Луизиана буквально плавает на нефти и газе. Болота-то золотые! Бросились бурить залив. Вверх по течению Миссисипи от Нового Орлеана до Батон-Ружа все побережье застроили нефтеперегонными заводами.
Но бум скоро кончился. Экономический спад не обманешь, нефтью не подмажешь. Сейчас «Галф», «Экссон» нещадно сокращают рабочие места, переключают производство на малый ход. В противном случае им грозит участь завода «Кайзер алюминиум». Тот закрыли. Тысяча рабочих получила «желтого Джека»—увольнительные листки. А знаете, что называли «желтым Джеком» в старину? Лихорадку. Желтую лихорадку, загонявшую в гробы десятки тысяч новоорлеанцев.
Мой собеседник словно забыл, что его ждет на редакционном столе недописанная передовица. Да и в какую передовицу вложишь всю эту боль и обиду за город, который любишь. За его люд, у кого, бывает, и монеты лишней нет, чтобы узнать, о чем он, Майкл Форсайт, пишет сегодня в своей колонке.
— А судостроение?
— Тоже настали тяжелые времена,— объясняет журналист.— Заказов нет. Сегодня дешевле построить судно в Японии или где-нибудь на Тайване, чем у нас, в США. Есть, конечно, военные контракты. Но они пришли и ушли, а безработица осталась. И какая! Под одиннадцать процентов рабочей силы — выше, чем в среднем по стране.
Форсайт признает: тем, кого еще не отлучили от работы, тоже несладко. Пользуясь спадом, предприниматели навязывают профсоюзам невыгодные договоры. Пугают: либо надо платить помалу всем, либо кого-то уволить. В общем, знакомая проблема индустриального центра в сегодняшней Америке. Отрезвление же после нефтяного бума похоже на «Пепельную среду» после карнавала. Ходили по городу после «Марди гра»? Видели?
Майкл Форсайт прощается: все-таки надо кончить статью в завтрашний номер.
— А вы по Кэнал-стрит о Новом Орлеане не судите,— советует он напоследок.— Загляните-ка в квартал «Желание». Это город внутри города...
Квартал «Желание». Звучит почти как уильямсовский «Трамвай «Желание».
Неужели довелось встретиться?!
Труба Луи Армстронга
Оказывается, он оливкового цвета! Не без трепета я погладил его железный бок, как будто это было живое существо. Солнечный зайчик метнулся в стекле лобовой фары. Трамвай словно подмигнул пришельцу.
Рядом с фарой висела кочерга для перевода стрелок. Двери и оконные рамы глянцево посверкивали бледнокрасной обшивкой. Впереди, под козырьком крыши, бежали белые буквы: «Специальный. Номер 221. Желание».
Да, это был он! Прославленный Теннесси Уильямсом, знакомый театралам всего мира, отныне бессмертный — трамвай «Желание».
Казалось, вот сейчас пойдут в сторону красные двери и на подножку вспорхнет Бланш Дюбуа:
— Мне сказали, чтобы я села в трамвай «Желание», сделала пересадку на трамвай «Кладбище», проехала шесть кварталов и сошла на Елисейских полях...
Попади героиня Уильямса в Новый Орлеан сегодня, она, конечно, не произнесла бы эту знаменитую реплику. Трамвайную линию, что ведет в нищую негритянскую слободу, почему-то окрещенную «Желанием», упразднили в 1948-м. Ровно через год после премьеры пьесы. Постепенно отправили на свалку трамваи таких старинных маршрутов, как «Французский рынок», «Испанский форт», «Бараки и скотобойня»... В лом обращалось что-то из самой истории Нового Орлеана.
Сегодня трамвай «Желание», умытый и праздничный, стоит на вечном приколе за оградой бывшего монетного двора. Это уже знакомый нам Французский квартал. По иронии судьбы именно здесь поселил когда-то своих героев Теннесси Уильямс. Среди этих узких улочек, под ажурными, чугунного литья балконами перекрестились судьбы бедняка Стэнли Ковальского и мятущейся, светлой души — Бланш Дюбуа.
Трамвай вернулся к своим пассажирам.
Впрочем, сегодня Ковальскому здесь бы не жить. Сегодня Французский квартал — не для бедняков. Его превратили в обитель артистической богемы. В скопище художественных галерей и «блошиных» рынков, модных салонов и ресторанчиков, где подают устрицы и острую уху «гамбо».
Этакий Монмартр на берегу Миссисипи. Душа самого неамериканского из всех городов Америки, еще не задавленная небоскребами, не растерзанная автомобильной цивилизацией. Но купленная на корню индустрией туризма.
Только заботами американских друзей я раздобыл здесь гостиничную комнатушку. Мне нужно было остановиться во Французском квартале. Сюда толкала журналистская задумка. Я пробрался в эти места за две с лишним тысячи миль от Нью-Йорка, петляя по автодорогам вокруг закрытых для советских журналистов зон, чтобы, помимо прочего, отыскать ответ на давно занимавший меня вопрос:
Как поживаешь, мистер джаз? Традиционный, исконно американский, изначальный...
Музыковеды без конца будут спорить, кто изобрел джаз. Бесспорно одно. Его создал город Новый Орлеан.
Именно тут, в многонациональном котле этого «Парижа-на-Миссисипи», сварилась, поднялась ввысь вместе с испарениями луизианских болот и растеклась по стране, а потом и дальше ритмичная, сплетенная не из нот — из радости и страданий людских — музыка, которую называют джазом.
Джордж Гершвин сказал о ней так:
«Я считаю джаз американской народной музыкой, не единственной, но чрезвычайно могучей, какой в крови и чувствах американского народа больше, чем любой другой...»
Этой фразой, выписанной во всю стену, встречает гостя единственный в Соединенных Штатах новоорлеанский музей джаза, он же отдел музея штата Луизиана.
— Определений джаза, как вы знаете, почти столько, сколько нас, специалистов. Я старался выбрать такое, которое бы никого не обидело. Не было категоричным...
У Дональда Маркиса такая же «некатегоричная», раздумчивая манера выражать свои мысли. Не изрекает, тем более не поучает. Словно советуется.
За стеклами очков в старомодной оправе глаза лучатся нескрываемым изумлением. Куратор музея и главный редактор местного джазового журнала «Секонд лайн» явно озадачен. Русский корреспондент—в Новом Орлеане! Изучает состояние джаза на месте! Такого, со времен как в луизианские болота забили первую сваю, кажется, еще не бывало.
— А тема у вас острая,— Маркис вдруг переключается на какой-то элегический тон.— Болезненно острая. Гершвину казалось, что джаза в нас, американцах, хоть отбавляй. А если взять сегодня анализ крови на джаз? Боюсь, откроется бедственная картина...
Честно говоря, я не совсем понимаю, о чем скорбит Дональд Маркис. Чуть ли не наступая ему на пятки, рвусь в музей, на создание которого он отдал пять лет жизни. В храм джаза...
В храме пусто и мертво. Кроме нас, ни души. Сама выставка тоже, надо сказать, несколько разочаровывает.
Кое-какие любопытные экспонаты, конечно, есть. Прекрасны ранние гравюры сценок на исторической новоорлеанской площади Конго-сквер, этой колыбели джаза. Закон 1817 года позволял черным рабам собираться после работы только здесь, на пыльном пятачке недалеко от нынешнего Французского квартала. И только в воскресенье до захода солнца. Ритмы негритянских плясок сплавлялись тут с мелодиями, подслушанными у заезжих европейских менестрелей. Рождалось то, что стало предтечей новой музыки
Подробно, с картами и дагерротипами тех времен рассказано о Сторивилле, квартале «красных фонарей», учрежденном на рубеже веков по замыслу новоорлеанского городского старейшины Сиднея Стори. В здешних салонах и барах впервые зазвучал синкопированный фортепьянный регтайм Джелли Ролла Мортона. Отсюда, из этих прокуренных, пропахших дешевыми духами обителей, зашагали к славе вместе со своими оркестрами Джо «Кинг» Оливер, Сидней Беше, Эдвард «Кид» Ори — музыканты, чьи имена можно встретить в любом исследовании по истории джаза.
У одной из витрин мой спутник задерживается надолго. Для ученого здесь — дело его жизни. С выцветшего бурого портрета смотрит напряженное, неулыбчивое лицо молодого креола. Свой инструмент, трубу, парень держит, как ребенка. Это Чарльз «Бадди» Болден — человек-легенда, которого считают «отцом черного джаза».
Считает, в частности, и сам Дональд Маркис. Он подарил мне свою книгу «В поисках Бадди Болдена, первого джазиста». Там прослеживается короткая, суматошная жизнь этого новоорлеанского брадобрея, которому удавалось извлекать из своей медной трубы звуки, заставлявшие бедняков Нового Орлеана плясать, когда им впору было бы забыться тяжелым сном.
«Бадди» Болден упал без сознания, шагая с оркестром на параде, и умер в тридцать восемь лет. «Но многие говорят, он надорвал себе сердце, когда играл,— пишет Маркис в своей книге. — Люди говорят, он дул в трубу изо всех сил своей души...»
Даже наука не в силах отделить в истории джаза народный сказ от факта, романтическую легенду от были. Пот и слезы рабочих кварталов поили корни этой музыки. Не этим ли она пленяет людей на всех меридианах и широтах?
Плывут мимо экспонаты музея. 1877 год. Один из первых экземпляров фонографа Эдисона с восковыми цилиндрами.
26 февраля 1917 года. В Нью-Йорке фирма «Ар-си-эй Виктор» выпускает первую граммофонную пластинку с джазовой записью. Вот она в витрине, за зеркальным, опутанным от воров сигнальными проволочками стеклом. Исторический диск на 78 оборотов в минуту записал квинтет «Орид-жинал диксиленд джаз-бэнд». На наклейке смехотворная по нынешним временам цена — 75 центов и совет: «Для танцев».
Знатоки видят четкую границу между новоорлеанским традиционным джазом и диксилендом, поясняет мне Дональд Маркис. Второй—дитя первого, обычно более быстрый по темпу, с более сложными и продолжительными сольными импровизациями. Традиционный новоорлеанский стиль более строг, незамысловат по ритмам. Ансамбль здесь блещет не солистами, а коллективным вдохновением. Этот джаз прост и гениален, как первое колесо.
— Где «гвоздь» музея? — спрашиваю я.— Чем вы особенно гордитесь?
Спутник подводит меня к витрине, посвященной великому сыну Нового Орлеана Луи Армстронгу. Под портретом трубача покоится на красном кубе мятый, со следами пайки французский рожок. Его история есть во всех биографиях Армстронга. Но здесь, под родным небом, в пересказе такой очарованной джазом души, как Маркис, она уже не воспринимается как рождественская сказка. Так было. Вот здесь, в этом городе. Хотите, покажу где?
Под Новый, 1913 год тринадцатилетний Луи распевал на улицах с приятелями рождественские псалмы. У него тогда — хотите верьте, хотите нет—был неплохой тенор. В небе рвались, осыпая город разноцветными искрами, петарды.
Тут будущий джазовый гений сделал глупость, а точнее, может быть, первый шаг к славе. В разгар фейерверка выпалил от радости в воздух из найденного накануне в сундуке пистолета. Армстронга быстренько судили и определили в дом для черных беспризорников. А там был самодеятельный оркестр, зоркий учитель м-р Девис и вот этот мятый, сто раз паянный рожок...
В салонах колесных пароходов, где позднее играл Луи Армстронг, джаз хлынул вверх по Миссисипи. Его было уже не остановить. А хотели.
Вместе с Маркисом перечитываем пожелтевшие листки грозных запретов и анафем. В 1901 году Американская федерация музыкантов призывала: «Надо приложить все силы, чтобы подавить и осудить исполнение и публикацию такой музыкальной дряни, как регтайм». Тремя годами раньше «Музыкальный курьер» испуганно голосил. «Идет волна вульгарной грязи и скабрезной музыки, накрывающая страну».
Окажись авторы этих проклятий сегодня с нами в музее, они наверняка остались бы довольны отношением новоорлеанцев к предмету их ненависти. За полтора часа — горстка посетителей. В залах гулко отдаются наши шаги. Мне доводилось бывать в бесчисленных музеях поп-музыки, где непрерывно ревут десятки видеомагнитофонов, крутятся кольцевые киноленты. Здесь ничего подобного. Немые витрины. Мертвая тишина.
Дональд Маркис будто читает мои мысли.
— Да,— говорит он,—действительно странно. Какой музей джаза без звуков, без самой музыки? Получается склеп, а не музей...
Но что поделаешь, сетует куратор. От государства денег на улучшение экспозиции не дождешься. Финансовые дела из рук вон плохи. Приходится полагаться на частные пожертвования, да и то мелкие. Вот есть компания, выпускающая сигареты «Кул». Она организует джазовые фестивали. Так ее традиционный новоорлеанский джаз не интересует. Ее вообще никакой джаз не интересует. Ей подавай только рекламу своего ментолового курева.
Коллекцию музея собрала горстка энтузиастов здешнего джазового клуба, созданного в 1948 году. До последнего времени экспонаты скитались по случайным помещениям, сырым подвалам и складам. А знаете, спрашивает мой спутник, сколько членов в клубе? Восемьсот на всю страну! Из них лишь сто тридцать из Нового Орлеана, города с полумиллионным населением. Только сто тридцать душ готовы пожертвовать доллар-другой, чтобы мы, американцы, не забыли историю джаза.
— Скажу сейчас одну ересь,— Дональд Маркис стирает платком пятнышко со стекла витрины.— Но это так и есть. Наш джаз, нашу, по Гершвину, «чрезвычайно могучую» народную музыку в Америке 80-х уже не считают искусством. К ней есть интерес где угодно, в Западной Европе, в Советском Союзе,—только не на родине. Странно, да?..
Куратор музея не знает, в чем проблема и как ее решить. Его совет: если уж какой чудак надумал сегодня избрать традиционный джаз своей профессией — ему лучше уповать на туристов. А то прогоришь...
Я подхожу к окну. Музей размещен на втором этаже бывшего здания монетного двора. Отсюда хорошо виден трамвай «Желание». Вагон стоит на обрубках рельсов. Дальше колеи нет.
Не символ ли это, подумалось мне? Не уткнулось ли в бездорожье в Америке то, без чего для многих нет Америки? В стране почему-то угасает джаз. Ведь это все равно, как если бы в Техасе исчезли джинсы
...Вечером мы с женой стоим в толпе у дома №726 на Сент-Питер-стрит. Гремит, гуляет и зазывает Французский квартал. Но люди знают, чего ждут.
В половине девятого приоткрываются железные ворота. Девушка у входа держит плетеную корзинку—в нее бросают по два доллара. Грошовая цена за три с лишним часа наслаждения не потускневшим за век, не разбавленным и не подделанным искусством. Из-за кошачьей корзинки это заведение когда-то звали «кошкиным домом». Сейчас, когда его слава стала международной, неказистое строение на Сент-Питер-стрит известно любителям джаза как «Презервейшн холл» — Зал памяти.
Здесь свято хранят музыкальные традиции. «Презервейшн холл» — единственное, пожалуй, место на родине джаза, где еще можно его послушать — настоящий, традиционный, новоорлеанский.
Да и не зал это вовсе, а, скорее, просторный амбар с грубыми, сто лет небеленными балками, уходящими в темень высокого потолка. Маленькое оконце наполовину заколочено фанерой. Со стен смотрят темные лики великих джазистов прошлого.
Никакой вентиляции. Всего несколько лавок. Сюда приходят не пропустить стаканчик под музыку, не поболтать с приятелем, а прикоснуться к тем временам, когда над Новым Орлеаном на семь миль окрест торжественно пела труба «Бадди» Болдена.
Нет, с Болденом братья Вилли и Перси Хэмфри не играли. Со всеми другими гигантами джаза—да. С «Кингом» Оливером, с Луи «Сачмо» Армстронгом... Вилли — одногодок Армстронга и, значит, ровесник века. Перси в те дни стукнуло 79. Но, говорят, мало где в Америке услышишь такой виртуозный джазовый кларнет, такую мощную трубу.
Я стою во втором ряду. Через чужое плечо вижу капельки пота на склоненных, словно вырезанных из сосновой коры лицах музыкантов.
Здесь нужен бы афоризм: настоящий джаз — это труд. Нет, «трудовая» метафора тогда ко мне не явилась. Ощущение было другое: идет разговор о чем-то важном, вечном, идет, может быть, уже десятилетия, тебя тоже пригласили замолвить в нем слово, пригласили как друга, как единомышленника, и ты ждешь свой черед, внимая неспешной беседе куда более мудрых, чем ты, людей...
Братья Хэмфри вяжут кружево традиционных композиций. «Господи, как ты был добр ко мне», «Поближе к тебе, боже» и, конечно, непревзойденные по популярности «Святые», как называют здесь похоронный марш «Когда святые маршируют». Описывать джаз словами — пытаться загнать ручей в банку. Музыка, наполнившая в ту ночь «Презервейшн холл», была живой, прозрачной и проточной. В другой раз будут те же братья Хэмфри, те же гимны, но настроение будет совсем другим...
Наверное, минута всякой подлинной музыки — это невозвратимый миг самой жизни.
Конец джаза?
Четыре вечера провел я в «Презервейшн холле». И все четыре вечера на высоком табурете у входа сидел старик в вязаной шапочке с сонной кошкой на коленях.
Среди американских исследователей джаза Уильям Расселл — «звезда» первой величины. Долгое время был куратором джазовых архивов Туланского университета. Автор бесчисленных монографий, лектор, коллекционер. В антрактах между выступлениями оркестра он скупыми точными штрихами набросал мне тоскливую картину упадка традиционного джаза, которая наблюдается, по его словам, в последние 20 лет.
Джаз пал ниц перед нашествием поп-музыки, говорил Расселл. «Она как кока-кола: на вкус сладко, легко пьется, а намешана черт те какая дрянь». Какой, по мнению русского журналиста, процент грампластинок приходится сейчас в Америке на джаз? Тридцать? Да вы, голубчик, давненько не были в магазинах. Даже классической музыке едва удается удерживать пять процентов рынка. А джазу перепадает и того меньше.
Естественно, где прибыль — туда отсасывает и таланты
— Мы с вами еще счастливчики — сподобились услышать братьев Хэмфри,— вздыхает старик.— Заметили молодого тромбониста Фрэнка Демонда? Из таких, может быть, сложится второе поколение новоорлеанских джазистов А третье? Третьего может уже не быть. По социально-экономическим причинам...
Кошка на его коленях дергает во сне лапой—тревожный, видать, приснился сон.
История «Презервейшн холла» — это одновременно и биография Элана Джэффи, его владельца с 1961 года, импресарио играющих здесь «последних могикан» и виртуозного исполнителя на тубе. Тубы разного размера, разной меди висят у него дома на стенах, лежат прямо на полу, как сытые ручные удавы.
Среди этого золотого сияния Элан поведал мне то, что известно всему городу—он отнюдь не купается в золоте. Нет, традиционный джаз давно неприбыльная профессия и, наверное, вообще не профессия. Дело не только в долларе, которого из джаза не выжать. Важнее, может быть, отношение государства к культуре, к ее традициям. И состояние расовых отношений в стране...
Эту мысль я уже слышал на научном семинаре, который собрался как раз в те дни в Новом Орлеане. Речь там должна была идти о сохранении традиций народной музыки. Но в первом же выступлении профессора Колумбийского университета Элана Ломакса зазвучала другая, смежная тема: о взаимосвязи между благополучием джаза и, пожалуй, самым тяжким проклятием Америки — расизмом.
Еще в шестидесятых годах Томаса «Кида» Валентайна, одного из знаменитых трубачей, до сих пор играющего в «Презервейшн холле», бросили в кутузку за то, что осмелился выступить вместе с белыми музыкантами. Самого профессора Ломакса не раз арестовывали. Не пожимай руку джазистам-неграм!
Это в прошлом. Но расизм только сбросил старую кожу, свежая же — экономическая. В том же Новом Орлеане, где негритянского населения больше половины, темный цвет обрекает людей на безработицу, на прозябание в гетто вроде «Желания». Толкает в топь преступности и наркомании.
— В джазе отражен главный конфликт на нашей американской земле,— размышлял с трибуны Элан Ломакс.— Как мы будем жить вместе: я — белый и ты — черный? В расцвете джаза я увидел бы одно из решений этого грандиозного конфликта...
Пока не видно Точнее, все наоборот. Откуда в Новом Орлеане эта традиция хоронить под джаз? Под хохочущий, искрометный, когда процессия возвращается с кладбища? Прославленный черный джазист Денни Баркер объяснил мне это таким народным поверьем:
— Когда кто-то умирает, все радуются, что покойник отправился в рай. Два раза в ад господь не пошлет. Ведь мы, негры, уже живем здесь в аду.
Утром я вышел почитать газету в парк имени Луи Армстронга. Бронзовый музыкант с трубой в одной руке и неизменным платком в другой стоял под розоватыми лучами солнца, как под прожекторами рампы. Вокруг на газонах просыпались бездомные. Один был побогаче —с краденой в магазине тележкой, куда сложил свой скарб. Он катал ее бессмысленными кругами по дорожкам парка мимо улыбающейся статуи своего великого черного собрата.
Успех одиночки в оправе из народной нищеты.
Среди газетных сообщений попалось нечто более радостное. Уинтон Марселис, молодой трубач из Нового Орлеана, получил сразу две самые престижные музыкальные премии «Грэмми» — за джазовый альбом «Думай только об одном» и за запись классических концертов Гайдна и Леопольда Моцарта.
Имя Марселиса уже на раз всплывало в моих разговорах с местными знатоками джаза. Его называли вторым Диззи Гиллеспи, даже новым Армстронгом. Почему бы не воспользоваться случаем, не побывать в альма-матер юной «звезды» — Новоорлеанском центре искусств?
Через несколько часов я уже сижу в аудитории центра в кругу его педагогов. Среди них — наставник молодого Уинтона его отец Эллис Марселис, известный джазовый пианист и композитор.
Удовлетворен ли он здоровьем джаза в Америке? Что имеют в виду газеты, когда советуют: джазистам надо отправляться в Европу, там к ним будет больше внимания, чем в США?
— Черные музыканты любят Европу, потому что к ним относятся там как к людям,— говорит Марселис. Высокий, с живым лицом человек сосредоточен. Интерес прессы, тем более советской, для него в новинку.—Там, в Европе, их не оскорбляют. На них не плюют. Не подставляют подножку. Здесь это случается на каждом шагу. Что до самого джаза, то серьезного подхода к сохранению его традиций, его истории у нас нет. Джаз в США уже не слушают, он превращается в фон универсамов, вечеринок...
— Почему поп-ритмы контролируют умы молодых? — продолжаю добиваться я полной для себя ясности.— Почему, скажем, все в восторженной истерике от Майкла Джексона?
При упоминании этого имени мои собеседники переглянулись. Джексон был в тот год последним сумасшествием не только Америки, но всего Запада плюс Японии. Альбом молодого негритянского певца, бывшего солиста группы «Джексон файв», раскупили в таком количестве, какого еще не знала история мировой грамзаписи. Рекорд всех времен и народов! Магазины США заполнили куртки «а ля Джексон», «очки Джексона». Сам президент Рейган счел полезным для своей избирательной кампании облобызать певца на виду у телекамер. Что же это за музыкальный феномен?
Эллис Марселис не скрывает досады.
— Джексон олицетворяет собой то, что случилось с искусством в Америке вообще. Его музыка—это поп-культура, нацеленная только на то, чтобы ее покупали. Я был на церемонии, где Джексону вручили больше десятка премий «Грэмми», и все это показалось мне съездом коммивояжеров. Джексон словно продал больше холодильников или часов, чем другие. Поэтому его вознесли. Как удачного торговца своим товаром. Жюри «Грэмми» — это люди промышленности. Альбом в их кругу называют «юнит» — единица продукции. Сама музыкальная терминология исчезает, потому что никого не интересуют художественные ценности как таковые. А мой сын? Счастливая нетипичная случайность...
Наш разговор наслаивается на время обеда. Кто-то приносит еще теплые «субмарины»—длиннющие, во весь батон сандвичи с ветчиной и листьями салата. Но к угощению не притрагиваются—так люди увлечены разговором.
— Большинство из того, что происходит в нашем искусстве, подлежит продаже.— Пальцы Марселиса играют на поверхности стола беззвучные гаммы.— Если искусство не продается — оно исчезает. Серьезные музыканты — не только джазовые — вынуждены либо играть друг для друга, либо записываться на мелких, никому не известных фирмах. Я вот, например, за свои деньги записал собственный диск. В конце концов деньги эти, наверное, верну, но газета «Уолл-стрит джорнэл» не сообщит об этом под рубрикой «Деловой успех».
Марселис опровергает тезис, будто публика не хочет слушать и покупать джаз.
— Это просто порочный круг,— говорит музыкант.— Люди любят то, что им известно. Публика могла бы раскупать джаз за милую душу, если бы его ей предлагали. Так нет, не предлагают...
— Хорошо,— становлюсь я в позу оппонента.— Пусть Джексон — продукт «хайпинга», то есть искусственного взбивания пены успеха. Но ведь перед ним расизм отступает. Теперь, после триумфа Джексона, черным певцам легче попасть на экран Эм-ти-ви, круглосуточной кабельной телепрограммы рок-музыки. Разве нет?
Марселис:
— Это опять вопрос «продается — не продается». Скажем, знаменитое американское печенье «Дэвидс» продается в Японии. Очень там популярно. Ну и что? Для чего он, Джексон, проломил расовый барьер? Сделает ли его пластинка «Триллер» американцев, в том числе и черных, духовно богаче? Нет, она в прямом смысле обогащает фирму грамзаписи «Коламбия». Для того барьер и проломился.
В разговор вступает Берт Брод, композитор и педагог по классу классической музыки.
— Что-то похожее происходит и в нашей области,— замечает он.— Американцы теряют культуру восприятия классики. Пластинки покупают по принципу: «Говорят, это ох как красиво!» Вот и пылятся у многих «Бранденбургские концерты» Баха. Причем, уверен, их даже не слушают...
— У классики и джаза — одна судьба,— мрачнеет педагог.
Когда я уже собрался уходить, Эллис Марселис вдруг достал из ящика стола газетную вырезку. Беседа вновь вспыхивает, устремляясь, правда, в довольно неожиданном направлении.
Вырезка занятная. Корреспондент «Нью-Йорк таймс» пишет из Москвы:
«Советский джаз давно вышел из темного угла. Музыканты... дают регулярные концерты, сопровождаемые афишами, рецензиями в прессе и регулярной зарплатой. Подлинные знатоки джаза ... читают лекции, пишут статьи по джазу в «Правде» и защищают научные диссертации по теме «боп» (джазовый стиль.— В. С.). Советские музыканты теперь экспортируют свою собственную разновидность изощренного джаза, а у советских ансамблей вроде трио Вячеслава Ганелина из Литвы появились свои собственные поклонники в Европе. В СССР есть даже ежегодный джазовый конкурс, победителей которого определяют критики, а результаты публикуют каждый год в рижской газете «Советская молодежь»...»
Фантастическое, с точки зрения американского обывателя, признание. Джаз занял достойное место в Советском Союзе? Есть от чего всполошиться. Действительно, в голове не укладывается, как это на родине джаза он хиреет, а традиционный—так вообще умирает, а в «тоталитарном государстве» СССР тот же джаз вдруг стал—снова цитирую «Нью-Йорк таймс» — «интегральной частью советской культуры». Скажите, люди добрые, что творится?!
Корреспондент предвидел такой эффект и мучительно искал удобное объяснение. Напрягшись, нашел-таки: советская власть, мол, оказалась «неэффективной в навязывании унифицированной культуры и формировании массовых вкусов».
Зачем же так недооценивать возможности страны пребывания, г-н Серж Шмеманн? Ведь в той же статье вы пересказываете советский фильм «Мы из джаза», где мы сами, смеясь, оглядываемся на свое прошлое. На времена, когда саксофон был чуть ли не символом морального растления, как, впрочем, и в Соединенных Штатах на рубеже веков
Вспомним, что музыкальная новинка была исторически быстрее осмыслена в СССР, чем в США. Еще в 1922 году популярная американская пьеса «Национальный гимн» всерьез изображала джаз как прямую причину инфарктов, пьянства и умственной отсталости.
Вот так-то.
Между тем в Новом Орлеане, на родине этой музыки, прекрасно разбираются, почему джазу худо в «плюралистическом» обществе, но нашлось место на палитре социалистической культуры. Слова простые, нужно только вдуматься. Как заметил Эллис Марселис, искусство в Америке принадлежит г-же Прибыли и подлежит продаже.
...Вернувшись в Нью-Йорк, я поехал на кладбище Флашинг поклониться могиле Луи Армстронга. Его бронзовый горн должен был венчать гранитный куб. Куб стоял, где положено. Горна не было. Его с мясом выкорчевал из гранита какой-то варвар. Позолоту с букв тоже аккуратно соскребли ночью в баночку.
Надеялись продать?
Парад тревог
Каждый американец знает: успех — это деньги, а деньги — основа благополучия.
Вот оно, это благополучие Нового Орлеана. Мимо проплывает серебристый купол «Супердрома»—спортивного зала-гиганта. Говорят, самый большой в мире. Деловую улицу Пуадрас обступили стеклянные коробки нефтегазовых контор. Вывески все те же: «Экссон», «Стандард ойл оф Калифорния», «Галф»...
Какие они разные, эти обители богатства, выкачанного из луизианских болот, очищенного от человеческого пота. Как резвится фантазия архитекторов! Как искрится золотистое стекло и нержавеющая сталь!
А вот нищета в Америке везде одинакова. Прозвать ли ее кварталом «Желание» или нью-йоркским Гарлемом, лик ее всегда сложен из знакомой мозаики Тянутся ряды приземистых облезших домишек. Громоздятся кучи неубранного мусора. Группки подростков застыли в бессмысленном, бесконечном ожидании. Сонные молодые женщины в ярком тряпье собираются на ночной промысел.
Впрочем, есть и кое-какое различие Гарлем, как мы узнаем дальше, стал негритянским гетто исторически. Новоорлеанский же район «Желание» сразу строили, как зону отчуждения. Может быть, те же самые талантливые архитекторы изобретали, как бы навечно отсечь нечистых от чистых, возвести непроходимый барьер между кланом отверженных и клубами «Камус», «Рекс», «Момус»...
В той же «Книге Америки: внутри пятидесяти штатов» авторы пишут:
«Уже само существование «Желания»—комментарий ко всему городу. Район ютится у реки, изолированный железнодорожными путями и каналами. Это такое место, где дети барахтаются в жиже канализации... а торговля наркотиками, грабежи и изнасилования настолько часты, что взрослые боятся выходить из дому».
Это здесь нашли прибежище те 26 процентов новоорлеанцев, что живут ниже порога бедности. Это отсюда министерство юстиции получает больше жалоб на жестокость полиции, чем из любого другого города Америки. Какой шутник назвал этот ад «Желанием»?
Примерно такой вопрос я задал Шарон Брилски, директору отдела общественной информации муниципалитета Нового Орлеана.
— Вообще-то к нам приезжал недавно большой человек от президента Рейгана,—увильнула молоденькая г-жа Брилски.— Представитель жилищного департамента. Советовал, что делать с 4 тысячами бездомных.
— Ну и что насоветовал?
— Надо, говорит, привлекать «армию спасения» и церковь. Пусть ищут кров...
Брилски подарила мне отпечатанный на мелованной бумаге проспект: «Новый Орлеан: на пороге величия». На том и расстались.
Возвращаясь из гетто в гостиницу, я проехал мимо знаменитых новоорлеанских кладбищ. Из-за высоких грунтовых вод в городе издавна сложилась традиция хоронить покойников в наземных склепах. Такое кладбище — целый город с чем-то вроде балконов, мостов, узких переулков.
Авторы туристических книжек тонко подметили, что уникальная система погребения весьма экономна. Если в склеп прибывает пополнение, старые кости просто сталкивают в особый колодец.
Главное, что покойнику сухо и уютно. Когда джазовый оркестр провожает негра в последний путь, исполняется, думаю, его желание о достойном жилье.
Может быть, так и назвать одно из кладбищ — «Желание»?
На прогулочном пароходике спускаюсь к устью Миссисипи. Пароход двухтрубный, колесный, скопирован с тех, что ходили во времена Марка Твена. Лопасти огромной вертушки на корме взбивают рыжую, кажется, вязкую воду.
«Большая вода», «Отец вод», «Грязные воды» — как только не окрестила народная молва этот великий речной путь, пересекающий 31 американский штат и две канадские провинции.
«Грязные воды» звучит сегодня, пожалуй, точнее всего Конечно, Миссисипи, несущая огромное количество ила, никогда не была прозрачной горной стремниной. В свое время Марк Твен даже видел в этом немалое достоинство. В «Гекльберри Финне» один из персонажей утверждает: «Мутную воду Миссисипи полезнее пить, чем чистую воду из Огайо».
Быть может, так оно и было, когда над Миссисипи еще не повисли облака бензинового угара, когда река еще не пошла радужной нефтяной сыпью. Бум нефтеперегонной индустрии тяжело отравил «Отца вод». Сегодня больше к месту не твеновские строки, а рефрен популярного блюза:
Мичиганская вода
сладка, как божий дар,
Вода из Миссисипи —
как скипидар
Вдоль восточного берега тянутся без просветов и, кажется, без конца верфи и причалы. У Нового Орлеана два порта. Один на Миссисипи, другой — на искусственном канале, перерезающем перешеек между рекой и озером Понтчатрейн. Это кормильцы-поильцы города. Самый большой порт Соединенных Штатов по торговому тоннажу — он принимает в год пять тысяч судов — дает работу 44 тысячам новоорлеанцев.
— Через наши причалы проходит примерно половина всего экспортного зерна. Кое-что шло к вам, в Советский Союз...
В кабинете торгового центра меня принимают генеральный управляющий порта Эдвард Рид и его заместитель Генри Джоффри.
Формально они — государственные служащие. Причалы, погрузочные сооружения и техника — все это принадлежит государству, сотрудничающему с частными пароходными компаниями. Но, как мне показалось, Рид и Джоффри прежде всего—деловые люди, реалисты с трезвым взглядом на вашингтонскую политику. А политика эта, считают они, не должна рубить топором по экономическим связям с миром социализма.
Не вдаваясь в оценку разных рейгановских эмбарго и санкций, мои собеседники дают понять: на работе порта это не сказалось.
Когда в Калифорнии докеры клюнули на газетную истерию вокруг гибели южнокорейского самолета, портовики Нового Орлеана продолжали грузить советские суда. «Выскочил один жалкий пикетик,— рассказывает Рид,—да его быстро оттеснили в переулок, и работа не прерывалась».
Главная мысль директора такая, надо бережно хранить общность деловых интересов Запада и Востока. Тогда легче будет добиваться снижения напряженности в советско-американских отношениях. А иначе что же: сидеть дожидаться конфликта?
— Мы тоже страдаем экономически,— вторит шефу Генри Джоффри.— В прошлом году в порт зашли пятнадцать советских судов. А сейчас вот грузится ваш «Вальтер Ульбрихт», так он только четвертый...
Директор и заместитель не раз бывали в Советском Союзе, там у них немало знакомых. Встречи и беседы высекли искры многих интересных идей. Рассказывая о возможностях порта, американцы иногда советовали: а почему бы вам, коллеги, не начать экспорт вот такой продукции, вот этой... Скажем, тракторов «Беларусь». Сейчас на плантациях в окрестностях Нового Орлеана бегает несколько сотен ярко-красных машин, и фермеры не нахвалятся.
Попутно выяснилось, что у «Беларуси» — мощный и надежный электрогенератор. А это как раз то, что нужно для освещения карнавальных платформ. Теперь советские тракторы маршируют под джаз на парадах «Марди гра».
...Своеобразен, вроде бы отрезан от страны, исторически выпал из американских традиций Новый Орлеан. Городские гиды любят восклицать: «Ах, как мало здесь от Америки, к какой мы привыкли! Как много смеси, сплава, пестрого и красочного космополитизма!»
Пусть так. Но тревоги Америки 80-х властно врываются в карнавальную атмосферу «самого веселого города».
Кстати, сам карнавал был на этот раз уже не тот. Впервые, пожалуй, заражен политикой. Ядовитый и, с точки зрения властей, еретический. Среди веселых масок полно было карикатурных ликов Рейгана. А над толпой плыли акульи морды крылатых ракет в окружении антивоенных плакатов.
Застал я и другой маскарад—бандитско-эмигрантский. В зале шикарного отеля, снятом на денежки ЦРУ, устроили всеобщую сходку латиноамериканские контрреволюционеры. Террористы из организации «Альфа 66», никарагуанские «контрас» да еще сайгонская военщина, улепетнувшая за океан,— все они прикидывались большими гуманистами, озабоченными «судьбой демократии» в Никарагуа.
Место своего сборища заговорщики выбрали не наобум Аэродромы Нового Орлеана и его порт стали перевалочной базой для переброски в пограничные районы Гондураса и Коста-Рики боевой техники. Главные поставщики оружия — Пентагон и ЦРУ, вдохновленные рейгановской идейкой о свержении законного правительства сандинистов. Главный перевозчик — концерн «Юнайтед брэнде», он же в прошлом «Юнайтед фрут», любезно предоставляющий свои самолеты и суда.
Пулеметы — туда, чтобы когда-нибудь миллиардные прибыли — обратно.
Нет, не забыт заботами, не отгорожен своими дамбами и шлюзами от мутной стремнины политики далекий южный порт Новый Орлеан.
...В тот последний вечер «Марди гра» я оказался у подъезда клуба «Рекс». Туда стекались на бал, кажется, все меха и бриллианты города. Мерно щелкали дверцы «роллс-ройсов» и «кадиллаков». Швейцары выкликали имена вроде «Мистер и миссис Генри Макинтош Четвертый»...
Рядом со мной стоял негр-оборванец с пустой банкой из-под кока-колы. Он держал ее, как гранату. И негромко, чтобы не услышал полицейский, спрашивал каждый отутюженный фрак:
— А вы богаты, сэр?
— А вы, сэр?
Мимо плыли волны дорогих духов.
— Ишь, не отвечают,— крутанул головой мой сосед.— Жилы из нас тянут, налоги сдирают, а разговаривать не хотят. Вот и повеселились вместе...

4 Сколько шагов до мечты?
Мартин Лютер Кинг,
28 августа 1963 года
Боль и надежды Гарлема
— Почему бы нам не отправиться туда поездом «А»? — предложил я.
Тромбоны грянули у меня в голове: «Тра-та-та-та-та!» Это были начальные такты знаменитой джазовой композиции Дюка Эллингтона «Садись на поезд «А». Десятилетия назад великий негритянский музыкант воспел поезд нью-йоркского метро, идущий через Манхэттен на север. Сами ньюйоркцы называют это направление «аптаун» — то есть в «верхний город», на окраину. Ритмичная, стремительная мелодия до сих пор открывает музыкальные передачи «Голоса Америки».
Кевин задумчиво поправил очки.
— Понимаешь,— сказал он,—«А» не подходит. Он теперь делает у нас только одну остановку, причем не там, где нужно. И проскакивает дальше.
— А как же Эллингтон? Он-то как ездил?
— Со времен Дюка многое изменилось к худшему. В том числе и с транспортом.
— Тогда поездом номер 3,— решил блеснуть я своими познаниями в географии нью-йоркского метро.
— Тоже не вариант,— покачал головой мой друг.— С «тройкой» творится что-то непонятное. Проехать на ней прямо туда нельзя. Только с пересадкой на границе района. Говорят, якобы из-за ремонта дорожного полотна. Но сколько же лет можно ремонтировать?!
Создавалось впечатление, будто мы с Кевином стремимся прорваться в какую-то запретную, отгороженную от обычной нью-йоркской жизни зону. На самом деле заветное место отделяли от корпункта АПН всего сорок с лишним кварталов. Но какая-то сила вроде незримого магнитного поля мешала общению с этим районом, изолировала его, обрекала прессу на молчание о том, что там происходит.
Она, эта загадочная зона, была рядом. И казалась отдаленной от города на десятки световых лет.
...Серый «олдсмобил» катит по магистрали Сентрал-парк-вест на север. В рамке ветрового стекла мелькают, как открытки, прилизанные виды среднего Манхэттена.
Справа — Центральный парк. Живописные черные скалы, озера. Стаи белочек на подтаявшем, нежданном снегу. Слева — внушительные, словно напыщенные от сознания собственного благородства фасады гостиниц, жилых апартаментов побогаче.
Номера улиц увеличиваются. Вот 72-я. Под позеленевшей медной крышей дремлет мрачноватая многоэтажная громадина по имени «Дакота». Гиды туристических автобусов обычно радостно выкрикивают здесь в микрофон: «В этом доме жил Джон Леннон из рок-группы «Битлз», пока его тут же... вот тут, посмотрите-ка, вот около этих ворот... не застрелили!»
Убийца, между прочим, сынок миллионера, добился своего. Его имя и имя кумира произносят теперь в Америке на одном дыхании.
Мелькают девяностые. Какое-то скопление шикарных лимузинов с затемненными стеклами и телевизионными антеннами. Из машин выпрыгивают шоферы в униформах, распахивают дверцы. Оттуда высыпает детвора в туалетах из дорогих магазинов. Водители похожи друг на друга напряженной почтительностью. Частная школа? Клуб здоровья? Что бы то ни было, вход сюда не для простых смертных...
Сто десятая улица. Конец Центрального парка.
Поразительное ощущение! Ничего не произошло, проехал какой-то десяток метров — а будто вторгся в иной, потусторонний мир.
Никаких шлагбаумов, никакой границы. Даже линии на асфальте нет. Но физически чувствуешь: именно здесь стоит незримая стена между двумя Нью-Йорками.
Точнее — между двумя Америками.
Где самодовольные фасады Сентрал-парк-вест? Вот проскочили уже пять кварталов, а по обе стороны улицы — ни одного заселенного дома. Все необитаемые. Верхние этажи смотрят черными глазницами выбитых окон. Проемы внизу, где когда-то, видно, были магазинные витрины, на скорую руку замурованы кирпичом, заколочены фанерой. Закопченные стены перечеркнуты зигзагами пожарных лестниц.
Крест поставлен здесь, кажется, на самой жизни.
Где я уже видел эти замурованные окна? Где дышал таким же воздухом безысходности? В Ольстере, вот где. Примерно так же выглядит улица Фоллз-роуд в Белфасте в Северной Ирландии.
Чудится, будто машина плывет в какой-то пустоте. Так мало здесь звуков, движения. Ветер ворошит груды гниющих отбросов, наваленные вдоль стен, прямо на тротуарах. Разинули пасти ржавых капотов брошенные посреди улицы машины. В железной бочке чадит костер. Вокруг застыли неподвижные, словно вырезанные из картона, человеческие фигуры
Такие же группы по 5—8 душ топчутся и на других перекрестках. Островки грозного безделья. Связки динамита, готовые к взрыву. Из-под рваных шапчонок с длинными козырьками за нашей машиной следят недобрые глаза. Люди явно ждут удобного случая. Ждут жертву. И тогда вся эта напряженность разряжается тем, что здешние социологи именуют «немотивированным преступлением».
Один из парней подбегает к машине, барабанит в стекло:
— Смоук! Смоук!
Это значит «курево». Так на уличном жаргоне именуются сигареты, набитые марихуаной. Это только начало разговора Стоит остановиться, заинтересоваться — и откуда-то из-за пазухи извлекается пластмассовый шприц с наркотиками покрепче. Ассортимент дурмана необъятный. Только отсчитывай доллары.
Рядом с нами кружит бело-синяя полицейская машина. У «копа» непроницаемое лицо Будды.
— А ведь он все видит,— почему-то перехожу я на шепот.
Кевин кивает:
— Еще бы. Не только видит. Знает всех толкачей наркотиков наизусть. Давно пометил на своей карте их лавки. Вот с такими — смотри! — витринами, где выставлены мыло, нитки, всякая дребедень. Знает даже их тайники в подвалах, в руинах...
— И что же?
— Что ты имеешь в виду?
— Почему не арестовывает? Закон не блюдет?
Кевин — негр. И вот я вижу, как его лицо темнеет еще больше, прямо катится по нему какая-то черная волна.
— Сознательная политика.— Голос Кевина звучит глухо, отчужденно.—Хотят сокрушить энергию людей. Их дух. Чтобы не осталось сил на борьбу за свои человеческие права. За исцеление Гарлема.
Да, мы в Гарлеме. На пяти квадратных милях между 110-й и 162-й улицами. И не случайно Кевин Меркадел, социолог, знаток гарлемской истории и сам житель Гарлема, говорит об этом знаменитом районе Нью-Йорка, как о пациенте.
Вот уже скоро век, как Гарлем болен...
Первый кол на том месте, где раскинулся сейчас Гарлем, вбили голландские колонисты. Шел 1637-й, а по другим источникам —1658 год. Селение окрестили в честь одного из голландских городков Новым Гарлемом. Нагрянувшие позже англичане хотели было переименовать его в Ланкастер заодно с преобразованием Нового Амстердама в Нью-Йорк. Но, гласит хроника, упрямство голландцев взяло верх над новациями покорителей морей.
Почти столетие Гарлем проспал среди сельской идиллии, пока его не разбудил грохот пушек. Генерал Джордж Вашингтон сообщал с нарочным конгрессу:
«Мы разбили лагерь на холмах Гарлема. Питаю надежду, что наши войска поведут себя достаточно мужественно и покажут, что они достойны благословения свободы. Хотя опыт подсказывает мне, что ждать этого от них, вообще говоря, не приходится».
Несмотря на опасения Вашингтона, войска не подкачали. Англичане в конце концов были разгромлены. Генерал стал первым президентом независимых Соединенных Штатов.
Об этих событиях напоминает бронзовая доска, которую показывают туристам в гарлемском районе Шугар хилл — на Сахарном холме.
Показывают и еще кое-что. С холма сбегают по 138-й и 139-й улицам ряды каменных особняков с лепниной над окнами, искусно выложенными арками и торжественными ступенями входов, обнесенными чугунными заборчиками. Это Страйверс роу — Аллея старательных. Дома тех, кто постарался в конце XIX века набить мошну. Семейства Асторов, Бейли и прочих нью-йоркских богачей наперегонки застраивали тогда Гарлем летними резиденциями. Вечерами по Гарлем-Ривер и Ист-Ривер скользили лодки — знать возвращалась из своих контор в нижнем Манхэттене.
До 1900 года Гарлем был зажиточным, аристократическим и лилейно-белым.
Черные ньюйоркцы ютились тогда на западе Манхэттена между двадцатыми и шестидесятыми улицами. С легкой руки одного полицейского инспектора район получил прозвище «Тендерлоин», что значит одновременно и «злачное место», и «мясная вырезка». На стыке двух веков буржуазия стала рвать эту вырезку молодыми крепкими зубами на части. Началось строительство Пенсильванского вокзала. Отхватил целый квартал самый большой в мире универмаг «Мейсиз». Полезли к небу, расталкивая друг друга боками, отели, банки, конторы.
А негритянская община? Капитал указал ей на дверь.
Историк Бейрд Стил пишет о тех временах:
«Наперекор отчаянным, но беспомощным протестам негритянскую чернь выталкивали на окраину, захватывая ее жилища, ее церкви, ее ремесло, и творили все это с беспощадным равнодушием».
О какой окраине речь? О Гарлеме. Только там изгнанники смогли найти себе какое-то пристанище. Строительный бум создал в этом летнем гнездышке аристократии излишек пустующих жилых домов. Чтобы спастись от убытков, домовладельцы, скрипя зубами, начали сдавать квартиры попроще черным, предварительно взвинтив арендную плату в два-три раза.
...Мы сидим с Уильямом Уордом в забегаловке «Сильвия». Старый негр ковыряет вилкой сладкую картофелину, эту любимицу гарлемской кухни. Еду здесь, как блюзовую музыку, определяют словечком «соул»—«душа», «душевная».
Духовная пища, правда, всегда была доступнее черному Гарлему, чем картошка.
Уорд, патриарх этих мест, хорошо помнит двадцатые годы — пору негритянского культурного ренессанса.
Какие, знаете, восходили здесь тогда «звезды»! Какие имена благословлял Гарлем на вечное место в истории! Видели знаменитые театры «Аполло», «Коттон клаб»? Один переделывают в частную телестудию. Другой пока заколочен... По сути, разрушают вклад Гарлема в культурное наследие Америки. Ведь с этих подмостков читал свои стихи Ленгстон Хьюз, начинал атаку на философию сытых Уильям Дюбуа...
А оркестры! Какие гиганты джаза! Ночи напролет играли здесь Дюк Эллингтон, Каунт Бейси, Луи Армстронг, Юби Блейк. Пели Альберта Хантер, Жозефина Бейкер. И тот, кого все мы, гарлемцы, величали «Биг дэдди», «Большой папа» — Поль Робсон.
— Поль пел вон там,— стучит пальцем в окно Уорд.— В подвале церквушки, где священником был его брат Бен. Он пел в подвале, а люди сходились со всей округи, заполняли подвал, стояли на улице, и всем было прекрасно слышно. Он, Поль, пробивал своим голосом и камень, и землю...
Гарлем созидал величие американской культуры. А сам таскал кандалы расизма.
— Когда я был мальчишкой, нам, черным, нельзя было появиться в магазинах. Негр не смел даже примерить кепку. Он должен был назвать размер—тогда ему выносили ее с черного хода. Автобусы были двухэтажные, как в Британии. На верхнюю палубу дозволено было подниматься только белым.
Старик вскидывает седую голову, смотрит куда-то в потолок. Будто туда ведет та самая лестница, по которой ему так и не довелось подняться.
— А как дела сейчас? — спрашиваю я.
Уорд смотрит на меня в упор:
— Как у калеки с протезом. Знаете?
Нет, не знаю я этой популярной здесь, в Гарлеме, притчи.
— Сидит калека без ноги. Знает достоверно, что существует на свете распрекрасный протез ценой миллион долларов. Вот сейчас бы прицепил его и побежал. Ан нет. Подступиться не по карману...
Разминая картофелину в томатном соусе, Уорд поясняет мне мораль притчи. Вопиющие проявления расизма, конечно, исчезли. Движение за гражданские права, которое возглавил Мартин Лютер Кинг, отдалось мощным эхом и в Гарлеме. На скамейках, на дверях гостиниц не увидишь табличек «Только для белых». Кепки можно примерять. Но жилье, да и многое другое осталось труднодостижимой роскошью. Отвоевав кое-какие записанные в книгах права, темнокожий американец не может ими воспользоваться. В большинстве случаев его место — среди бедняков, безработных, отверженных.
В Гарлеме эта трагедия видна, как под увеличительным стеклом. В социальной статистике мало веселого. Безработица среди взрослого населения района — 50 процентов. Среди молодежи в возрасте 14—19 лет еще выше—70 процентов. Негритянское гетто, когда-то страдавшее от перенаселения, сейчас пустеет. За последние десять лет Гарлем покинули почти сто тысяч человек.
Почему? История повторяет себя. Тогда выживали черных из среднего Манхэттена, сегодня — из Гарлема.
В Манхэттене уже нет клочка земли, чтобы вбить лишнюю сваю, и бизнес, естественно, начинает штурм окраин. Городские власти захватили сейчас 60 процентов зданий в Гарлеме и сознательно их не ремонтируют. Задумали сидеть на этих ветшающих коробках пять, десять лет, сколько понадобится. Высиживают новый исход темнокожих. Только куда теперь? Куда глаза глядят...
Уильям Уорд подбирает последним кусочком картошки томатную жижу.
— Хотите, забежим на минутку к одной моей знакомой? Посмотрите на Гарлем, так сказать, изнутри...
Предложение заманчивое. Выбираемся из полумрака «Сильвии» на блеклую, словно нарисованную углем на сером картоне, улицу. Затыкает мокрым кляпом рот, не дает дышать весенний ураган — он, бывает, накатывается на Нью-Йорк внезапно, будто кто-то наверху включил рубильник. Бреду за Уордом по бесконечным лабиринтам переулков, спускаюсь в какую-то преисподнюю.
— Осторожно! — окликает старик.— Ступеньки нет! Домовладелец говорит, летать надо учиться.
...Кухонька чистенькая. Приглядевшись, понимаю: ощущение чистоты возникает главным образом из-за того, что на полках и на столе пусто. На меня смотрит стыдливая, старающаяся замаскировать себя под опрятность нищета.
Селия Росадо, сорокалетняя женщина, сидит на табурете рядом с холодильником. Холодильник большой, сверкает никелем и эмалью. Чтобы как-то начать разговор, я не очень-то кстати делаю комплимент этому громоздкому, пожалуй, слишком роскошному обитателю скромной кухоньки: мол, много, наверное, туда помещается.
Селия распахивает белую эмалированную дверцу. На полках холодильника—две луковицы, две заплесневелые палочки прессованных сухофруктов и банка горчицы. Все.
— А до начала месяца, то бишь до выплаты пособия, еще две недели,— ровным, каким-то бесцветным голосом говорит она.— Вот и корми мужа, корми детей...
Семья Росадо, оказывается, поселилась в Гарлеме не так уж давно. Еще на прошлое рождество, когда корпорация «Катерпиллер трактор» уволила слесаря Дона Росадо, у него с Селией был какой-никакой, а свой домик. Были другие приметы благосостояния, скажем, вот этот самый холодильник фирмы «Дженерал электрик».
Потом все рухнуло, как замок из песка, на который накатился океанский прилив.
Из-за неуплаты очередного взноса банк отнял дом. Переезд в Восточный Гарлем, в эту подвальную неотапливаемую, малопригодную для жилья квартиренку тоже стоил денег. Сбережения стремительно таяли. Дон и Селия с ужасом ждали дня, когда в почтовый ящик бросают счет за аренду. Унизительные переговоры с домовладельцем—«Нельзя ли немножко повременить с оплатой?», с бакалейщиком—«Не дадите ли пакет овсяной каши в кредит?»—уже ни к чему не вели.
Маленькие царьки Гарлема давно почуяли, что семья Росадо покатилась туда, за черту бедности.
Таким не одалживают. Таких не спасают. Оттуда, из-за этой черты, так же трудно подняться, как из могилы.
А там, внизу, по официальным данным,— около 34 миллионов американцев. Это люди, чьи доходы на семью из четырех человек не превышают 10 610 долларов в год. На первый взгляд, сумма кажется солидной. Так и хочется воскликнуть: какая же это бедность, если счет идет на тысячи?!
Примерно этот вопрос, только в более тактичной форме я и задал Селии. Женщина долго смотрела на свои руки, недвижимо покоившиеся на веселеньком пластике стола.
— Обратили внимание? — вдруг спросила она.— Обратили вы внимание, что лампочка в холодильнике не зажигается? И не зажжется. Электричество в прошлую субботу отключили. Вот давайте заплатим с вами за аренду, за электричество, за газ, за водопровод, за канализацию — давайте заплатим за все это и тогда пересчитаем тысячи. Получаются не тысячи — центы. Я уж не говорю о еде...
Селия нагнулась, поправила на полу ворох тряпья. Из него выглянуло бледное личико. Двухлетняя Вероника спала. Такие же детские лица я видел на кинокадрах, отснятых в пораженных голодом районах Эфиопии. Старческие морщины, глаза, словно утонувшие в черных провалах.
Вспомнилась невероятная и, тем не менее, до последней цифры точная статистика, опубликованная учеными Гарвардского университета. 39 процентов американцев, оказавшихся за чертой бедности,— это дети. Вспомнился и разговор с педиатром Бостонского городского госпиталя д-ром Деборой Фрэнк: «Сколько раз мне попадались ребятишки, страдающие острой формой протеиновой недостаточности»...
Голодные дети в Америке 80-х? Здесь, в нью-йоркском Гарлеме? Нет, это не миф.
Это действительно происходит в стране, которая выбрасывает на свалку одну пятую своих пищевых продуктов. Впрочем, удивляться тут нечему. Голод миллионов — производное от роскоши избранных. А эти избранные лучше сгноят окорока, спустят молоко в канализацию, закопают помидоры бульдозером в овраг, чем насытят хоть один рот даром.
Спрашиваю Селию, как семье удается существовать.
— Продуктовые марки,— односложно отвечает она.— Ну и, конечно, пособие «уэлфер»...
«Уэлфер» переводится как «благосостояние». Это государственная программа социальной помощи, которой официальные чины чрезвычайно гордятся. Она преподносится чуть ли не как гарантия, что гражданин Соединенных Штатов якобы не может поневоле опуститься на социальное дно, а тем более погибнуть от нехватки средств к существованию.
Иначе говоря, с благосостоянием в Америке будто бы можно разминуться лишь по собственной лености и ротозейству. Если же обратиться к государству за помощью — оно поможет.
Так ли это? Сердцевину программы «уэлфер» составляют продовольственные талоны. Они, эти розоватого цвета листки, позволяют 20 миллионам необеспеченных американцев покупать продукты с некоторой скидкой. Президент Рейган не раз с гордостью напоминал различным аудиториям, что-его администрация не скупится — расходует на такую продовольственную помощь 18,5 миллиарда долларов в год.
Вообще говоря, сто стратегических бомбардировщиков В-1 В стоят 22 миллиарда. Но здешняя пресса не делает таких сопоставлений. И бедняки вроде Селии Росадо просто не подозревают, что их детей во многом доводит до черных кругов под глазами Пентагон.
Не всегда задумываются эти американцы и над тем, что продукты и услуги все время дорожают, а размер выплат по «уэлфер» и денежное значение продуктовых талонов остаются постоянными уже много лет. В результате с 1980 года покупательная способность государственной помощи беднякам упала на 9,7 процента. Если у семьи нет никаких других источников дохода, кроме пособия и талонов, ее бюджет соскальзывает на одну треть ниже официального уровня бедности.
— Простите, но что это значит? Если конкретно? — решаюсь спросить я у Селии.
Трудно бедняку говорить про свою бедность. Багряный закат пробивается в узкое окошко под потолком, и я вижу, как по щеке у Селии ползет, поблескивая, слеза.
— Когда выдают продуктовые талоны, конечно, сразу — в лавку. Покупаю чего подешевле: бобы, жир — уж не знаю, какой он, животный или из нефти. Молоко детям. Но все кончается за неделю, от силы за десять дней.
— А что тогда?
— Детям еще что-нибудь припасу, оторву от себя...
— А вы сами, муж ваш?
— Мы пьем много воды. Пустой воды или, когда бывает, с какой-нибудь заваркой. Это, конечно, не еда, но все же лучше, чем ничего...
Когда совсем невмоготу, когда Вероника затихает у себя в гнездышке из тряпья, а старший — Хозе не может идти в школу, потому что у него кружится от голода голова и он ничего не понимает на уроках, тогда Селия и Дон встают в очередь у благотворительной суповой кухни. Ее организовала баптистская церковь, что на 102-й улице Гарлема. Туда, бывает, сбрасывают то, что им негоже, продуктовые фирмы. Предпочитают приобщиться к благотворительности, вместо того чтобы тратиться на уничтожение гнили. Оттуда у Селии та банка горчицы времен каменного века да заплесневелые палочки сухофруктов.
Прощаемся. На улице, прямо у выхода из подвала,— маленький магазин электротоваров. В витрине включен телевизор. На экране мельтешит реклама. Американцы! — кричит она.— Вот такие дома вам нужно строить! Такие автомобили покупать! Такие холодильники ставить в своей кухне!
И я вижу точно тот самый холодильник, какой еще стоит у Селии Росадо.
Последний символ благосостояния, которое разбилось вдребезги.
Подходит пора расставаться и с Уильямом Уордом. Старик долго не выпускает мою ладонь из своей — его искренне радуют мои слова благодарности. Значит, удалось приоткрыть дверь в Гарлем для русского журналиста? Доброе, нужное дело.
— А вы «Нью-Йорк таймс» на дом получаете? — вдруг спрашивает он.
— Да. Выписал. Заказал — очень удобно. Звонишь по телефону 1-800-631-2500—и утром газета уже под дверью.
— Позвоните еще раз. Представьтесь, будто живете в Гарлеме. Вам будет интересно.
Вернувшись к вечеру в корпункт, я так и сделал.
— Со сто десятой по сто шестьдесят вторую улицу не доставляем,— пропел ласковый женский голос.
— Почему?
— Не знаю. Такая, наверное, у «Нью-Йорк таймс», у ее отдела распространения, политика...
В двух шагах от черного гетто доставляют, а сам Гарлем — в информационной изоляции. Называется «политикой»...
Расизм с полицейской бляхой
— Вот здесь это стряслось...
Кевин показывает на перекресток. Наша машина притормозила на Пятой авеню между 114-й и 115-й улицами. Впереди торчат облупленные, исписанные на высоту человеческого роста непечатными словечками, разрисованные разными художествами, многоэтажные башни.
Тут он и жил, двадцатитрехлетний гарлемский парень Генри Вудли. Тут до сих пор живут его мать и сестра Гвендолин.
В то воскресное утро, 9 января 1983 года, они болтали втроем у перекрестка — Гвендолин, Генри и его девушка Ким. Мимо брела какая-то уличная молодежная банда. Один из ватаги начал приставать к Генри, полез с кулаками. Дело явно шло к «маггингу»—так называют здесь уличные грабежи, случающиеся часто среди бела дня.
Гвендолин кинулась в полицию, в участок №5 — благо тот был рядом: «Помогите! Напали на брата!»
Полицейский не спеша подошел к окну, отодвинул занавеску: «Ничего особенного. Уже разбежались...»
В этот момент стоявший рядом с ним человек в штатском выхватил из-под мышки, из потайной портупеи пистолет и ринулся на улицу.
Генри уже спокойно шагал в направлении участка.
Тот, в штатском, выстрелил ему в лицо.
— Что делаете?! За что?! Мой брат! Моего брата!..— в беспамятстве закричала Гвендолин.
Сержант участка №5 Гэри Коммер — он был в тот день в отгуле, поэтому без формы, но по своему обыкновению при пистолете — выстрелил в Генри еще раз. В затылок. Добил.
Подбежали трое приятелей-полицейских, обняли Коммера за плечи, как победителя, и так, обнявшись, пошли в свою контору. Надо думать, чествовать, как чествуют охотника, вернувшегося с трофеями.
Генри скончался тут же на улице, на руках матери. Позднее Сильвия Вудли рассказывала репортеру «Амстердам ньюс»:
— Через несколько минут, ну, сразу после убийства, я прибежала в участок. Все полицейские хохотали! Над чем? Над моими слезами? Над расправой? Один толстяк снял форменную куртку, чтобы я не прочла его имя на бляхе, и говорит: «Не добивайся расследования. Не надо. А то долго в своей квартиренке не протянешь — выкурим...»
Это лишь один стоп-кадр из фильма ужасов, который стал повседневной явью для обитателей Гарлема.
Зверства дополняют наркотики в том инструментарии угнетения, с помощью которого полиция вышибает человеческое достоинство из жителей негритянского гетто, создает там заповедник для откровенного, подчас хвастливого, бросающего вызов расизма.
Впрочем, не в одном расизме дело.
Со времен Поля Робсона и первого негра — члена муниципалитета Нью-Йорка коммуниста Бенджамена Дэвиса, получивших свое политическое крещение здесь, в Гарлеме, район остается хранителем демократических, мятежных традиций. Гарлем с энтузиазмом пришел в 1982 году на грандиозную июльскую демонстрацию против ядерной опасности. Именно он, Гарлем, не раз отказывал на муниципальных выборах в поддержке мэру Нью-Йорка Эдварду Кочу, демагогу-реакционеру.
Поэтому у полицейского террора здесь густой политический оттенок. Расстреливая Генри Вудли и других, хотят умертвить социальный протест.
— У нас вот такое досье жалоб, документирующих жестокость полиции.— Мой собеседник словно берется за корешок толстенного тома.— Расизм с полицейской бляхой! Что может быть отвратительнее...
В старейшей, знаменитой своими настоятелями Абиссинской баптистской церкви Гарлема меня принимает священник Кэлвин Баттс.
Он молод, но уже хорошо известен стране как красноречивый борец за равноправие афроамериканцев. В негритянских гетто Америки церковь по сей день играет роль некой оси, вокруг которой вращается не только религиозная, но и социально-политическая жизнь.
Баттс, например, не только читает воскресные проповеди. Он — председатель гарлемского Комитета против мотивированного расизмом полицейского насилия.
— Размаху и жестокости террора, который творят «копы», нет предела,— рассказывает священник.— Городские власти, мэр Коч покрывают полицию. Недавно создали так называемое Гражданское управление по разбору жалоб. А из кого оно состоит? Кто эти гражданские ревизоры? Опять-таки сотрудники полицейского департамента.
Баттс перебирает документы, сплошняком покрывающие стол.
— Вот еще случай. Один из последних. Знаете, когда кто-то не поспевает сесть в вагон подземки, люди, бывает, придерживают пневматические двери. Так и поступила на днях одна негритянка. Задержала дверь на секунду. Чтобы дети успели прыгнуть в вагон. И что же? Полицейский тут же, на глазах у семьи, ее избил. А она была беременна. Так он ее — резиновой дубинкой по животу...
Баттс надолго умолкает. Потрескивает вделанное в стену переговорное устройство, соединяющее обитель священника с приемной. Слышно, как там пришел прихожанин, просит написать бумагу, чтобы выдали дочке пропуск для проезда на метро.
Под предлогом, что население Гарлема сокращается, власти закрывают местные школы. Хочешь учиться? Отправляйся ежедневно в нижний Манхэттен, а то и за реку, в район Куинз. Но проезд в один конец на подземке или автобусе стоит 90 центов (70 копеек). Есть, правда, пропуск со скидкой — его-то и добивается прихожанин. Но выходить с таким пропуском из метро более чем на 2 часа нельзя: обратный проезд тогда придется оплачивать. Таким любопытным способом Гарлем по существу тоже отрезан от образования, от надежд на трудоустройство. За пару-другую часов науку не постигнешь. Работы тоже не найдешь.
— Да...— вздыхает священник.— Привезли нас сюда, в Штаты, рабами. В рабстве, по сути, и держат. Когда-то в негре видели три пятых белого человека. Сегодня, может быть, прибавили дольку-другую. Но до полного человека, по мнению властей, еще не близко...
Разговор опять возвращается к полицейскому террору.
Положение стало настолько невыносимым, что группа негритянских общественных деятелей, в том числе Баттс, обратилась к конгрессмену Джону Коньерсу, председателю подкомиссии палаты представителей по уголовному судопроизводству. «Спасите Гарлем от узаконенного насилия!»
После долгих проволочек подкомиссия назначила наконец выездные слушания. Тут-то и выплыло наружу, как мэр Коч и его подручные стоят за полицейский расизм горой.
Мэр отрядил для слушаний помещение в гарлемской конторе городского совета, куда от силы могли вместиться человек 250. Задумка была такая: набить зал полицейскими в штатском и сотрудниками муниципалитета. Как будто жаловаться на бесчинство полиции некому. А если кто и прорвется, то свои люди сумеют освистать его перед конгрессменами. Дадут тем понять, что все это бред, белая горячка у черномазых.
В назначенный день подходы к залу затопило гневное людское половодье. Пришли сотни жителей Гарлема. Слушания пришлось перенести.
Два месяца спустя заседание комиссии устроили уже в армейском спортивном зале. Публику пустили только на балконы. Конгрессменов и потерпевших разместили кучкой в центре игрового поля за специально привезенными барьерами. Организаторы явно старались отсечь общественность от события. Мэр Коч на слушания не явился, обозвав их «цирком».
Тогдашний полицейский комиссар Нью-Йорка Роберт Макгир негодовал перед телекамерами: «Слушания ведут к расколу! Расшатывают закон и порядок! В них не было никакой необходимости...»
Не было? Шесть часов в зале звучали свидетельства жертв. Десятки жителей Гарлема рассказывали о своих столкновениях с расизмом в полицейской фуражке. Еще 60 человек представили письменные показания.
Расстрелянный, избитый, оскорбленный законом Гарлем исповедовался ему же, закону.
В результате никакого чуда раскаяния в полицейском управлении Нью-Йорка, конечно, не свершилось.
Позднее знакомые американцы достали мне ксерокопию любопытного служебного рапорта. Вот он:
«Макенз Дезир, пятнадцатилетний черный подросток, приблизился к полицейскому офицеру, держа в правой руке то, что показалось блестящим предметом. Офицер принял это за нож, занесенный для удара... Он произвел одиночный выстрел, повлекший за собой смерть Дезира. Ножа или какого-либо блестящего предмета у погибшего или на полу вблизи тела обнаружено не было...»
Подобно человеку, Гарлем изменчив. От отчаяния у него недалеко до надежды. Сегодня тот редкий день, когда негритянское гетто, кажется, забыло о терзающей его неутолимой боли — нищете, расизме, отчуждении.
15 января... Для стремящейся к равноправию Америки день рождения Мартина Лютера Кинга — это святой, радостный праздник. Тем более, сегодня воскресенье.
Гарлем принаряжен, возбужден. Многие поехали за реку в штат Нью-Джерси. Там в филармонии городка Ньюарка ожидается концерт «госпелз» — ритмичных негритянских религиозных песнопений. Но не ритмы главное. На концерте будет Коретта Скотт Кинг, и люди хотят отдать дань уважения неутомимой вдове, продолжающей борьбу за гражданское достоинство Черной Америки.
В гарлемских церквах звучат грамзаписи страстной, теперь уже хрестоматийной речи-пророчества Кинга: «У меня есть мечта...»
О чем он мечтал тогда, в августе 1963-го, в час завершения знаменитого похода на Вашингтон?
О дне, когда на красных холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев сядут вместе за «стол братства». О дне, когда штат Миссисипи, этот раскаленный ад расового угнетения, превратится в «оазис свободы и справедливости». О дне, когда его, Кинга, дети будут жить в стране, где о них станут судить не по цвету кожи, а по «содержанию личности»...
Сбылось ли?
Комментаторы согласно кивают с телевизионных экранов головами. В посвященных юбилею программах мелькают одни и те же портреты. Первый черный астронавт Гийон Блуфорд. Первая черная королева красоты всея Америки Ванесса Уильямс. Уже знакомый нам негритянский рок-певец Майкл Джексон.
«Он (Джексон.— В. С.) доказывает,— восторгалась «Нью-Йорк таймс»,— что можно выйти из гетто, и если у тебя есть энергия, ты можешь достичь всего на свете. Это — американская мечта».
Точнее, мечта казенной Америки. Но совсем не мечта Мартина Лютера Кинга. Никто не отнимает у упомянутых знаменитостей их дарования, целеустремленности, сладкого триумфа удачи. Но отсюда, из Гарлема, прекрасно видно: официальная пропаганда вовсю использует эти фигуры, как сверкающую пыль, чтобы запорошить глаза темнокожему обывателю.
Это громоотводы черного протеста. Единицы, чьим успехом правящие классы хотят откупиться от справедливых требований миллионов негров, живущих как бы в другой Америке — стране без радости, без надежд.
— Символизируют ли австронавт и красавица прогресс черной общины? Конечно, нет.
Это мнение Фрэнка Чэпмэна. С президентом Национального союза борьбы против расовых и политических репрессий я беседовал на третьем этаже бетонной коробки в нижнем Манхэттене. Если кого-то можно назвать общественным ходатаем Гарлема, то это он, Чэпмэн. В штаб-квартире его организации слышен каждый стон черного гетто.
Конечно, говорит Чэпмэн, борьба Мартина Лютера Кинга и его сподвижников привела к десегрегации избирательного права. В Капитолии теперь на десятка полтора черных законодателей больше, чем в 1963 году. Но все равно их непропорционально мало. В сенате же вообще нет ни одного негра. А главное даже в другом. Сдвиги в сторону равноправия произошли скорее в книгах, чем в умах и душах правителей Америки. Расизм просто стал изощреннее, так сказать, выше качеством.
— Взгляните-ка!—собеседник берет свежий номер «Нью-Йорк таймс», читает вслух: «За шесть минувших месяцев прибыль трех автоконцернов Детройта составила 4,1 миллиарда долларов».
— А ведь в Детройте безработица выше, чем где-либо — 70 процентов! И у нее преимущественно черный цвет кожи...
За все за это «спасибо» Рейгану, считает Чэпмэн. С точки зрения меньшинств, Рейган не просто бесталанный президент. Он, похоже, самый плохой президент в истории Соединенных Штатов. С приходом администрации Рейгана на демократические права началась новая мощная атака. За ней, этой атакой, стоит политическая философия президента.
— Я не о его философии защиты частного предпринимательства,— машет рукой Чэпмэн.— Этим не удивишь. Пусть его резвится. Я о другом. Рейган идет дальше. По его мнению, маленькому человеку не положены даже те тощие социальные подачки, на которые когда-то раскошеливались власти. Никому не положено ничего...
Взять программу продовольственных талонов, начинает загибать пальцы Чэпмэн. Сейчас по ней—топором! И что же? В том же Гарлеме дети вынуждены жевать такое, от чего все они заражены худшей разновидностью кишечных паразитов.
Взять обучение молодежи полезным профессиям. Теперь с трудом вспоминается, что существовали и такие государственные программы. Но при Рейгане знания не положены беднякам. Тем более тем, у кого в свидетельстве о рождении вписано «черный». Да-да, цвет кожи вписывается и туда, и в свидетельство о браке. А то как бы не напутать. Как бы, не дай бог, не сошел за белого тот, у кого в жилах не меньше одной тридцать второй части черной крови. Малоизвестный факт, но рабская арифметика в ходу по сей день. Так вот, юнцу-негру теперь негде выучиться на сварщика, автомеханика, столяра. Отсюда поток в уличные университеты толкачей наркотиков.
Еще одна новинка «рейганомики» — на бедных окраинах, в частности в том же Гарлеме, создают так называемые «зоны свободного предпринимательства». Проще говоря, там, в этих зонах, снижены налоги на вложенный капитал. Идея рекламируется как приглашение к беднякам: «Обогащайся, кто может». По сути же возникли очаги резко заниженной заработной платы. Негров и прочих неимущих заставляют там ворочать горы за гроши! Заповедники рабского труда — вот что такое рейгановские «зоны свободного предпринимательства». Обогащаются лишь фирмы и концерны. А рабочий люд...
Фрэнк Чэпмэн не договаривает. Встает, подходит к окну.
О чем думает он в час, когда щедрая к своим подлинным героям Америка обращается к заветам Кинга, сопоставляет мечту великого негритянского пророка с реальностью и не находит между ними ничего общего?
Не мелькают ли перед его мысленным взором кадры кинохроники? Темнокожих демонстрантов рвут полицейские собаки... В лицо негритянки бьет струя из пожарного брандспойта...
Назад, к докинговским временам, похоже, пятилась страна под властью людей Рональда Рейгана.
И, наверное, не было в Америке городской общины, питавшей к этой администрации более острое чувство ненависти, чем Гарлем.
За неделю, пока мы колесили с Кевином Меркаделом по улочкам черного гетто, пока встречались с его обитателями, повсюду напоминало о себе со стен, ежеминутно всплывало в каждом разговоре и в конце концов становилось его главной темой одно имя — Джесси Джексон.
Первый темнокожий кандидат в президенты!
Одного этого было бы достаточно тогда, в 1984 году, чтобы сделать 42-летнего баптистского священника кумиром Гарлема. Но так называемый «феномен Джексона» оказался сложнее. Перед Америкой предстал не просто первый негр, присоединившийся к бегу многочисленных кандидатов в Белый дом. Соратник Мартина Лютера Кинга — по одной версии тот скончался на руках у Джексона — выступал как выразитель чаяний бедняков, национальных меньшинств, женщин и престарелых. Тех, кого он включил в отчеканенное им понятие «радужной коалиции».
Блистательный оратор, Джесси Джексон буквально гипнотизировал слушателей страстными речами в ритме «госпелз»:
— Если вам нужен тот, кто накормит голодных, я здесь! Пошлите меня в Белый дом! Если вам нужен тот, кто оденет нагих, я здесь! Пошлите меня в Белый дом!
Шансы Джексона тогда были неясными.
Бесспорно было одно: участие черного кандидата в президентском марафоне исполнено большой символики. Оно вызвало неслыханную политическую активность негритянских общин, мощный прилив новых, ранее не зарегистрированных избирателей.
— Джесси, мы за тебя! — шумело в те дни гетто. Никому еще так не открывал свою душу Гарлем, как Джексону.
...Наша машина пересекает невидимую границу у 110-й улицы. Черная окраина с ее болью и надеждами остается позади. Вполголоса, себе под нос Кевин напевает мелодию, прославленную королевой блюза Билли Холидей. Говорят, это о нем, о Гарлеме:
Я продержусь,
Покуда у меня есть ты.
Пусть впереди ненастье и дожди,
И нищета того гляди осилит,
Стенаний от меня не жди.
Я продержусь —
Ведь у меня есть ты.
Чечетка на могиле
Один рисовал, другой плясал.
Майкл Стюарт не был знаком с Раймондом Гринвудом. Они разминулись не столько во времени, сколько — читатель скоро поймет почему — в пространстве.
Но между ними немало общего. Оба молоды, у обоих черный цвет кожи, оба не без искры божьей. Майкл — художник, студент художественного училища «Пратт ин-ститьют» в Нью-Йорке. Подрабатывал манекенщиком в салонах. Раймонд — тот из Гарлема, впитал в себя его ритмы, а вместе с ними и азарт танцора-чечеточника.
Итак, один рисовал, другой плясал. Одному не хватало центов на краски, другой вышиб в конце концов своим дробным переплясом миллионы.
Что свело две полярные судьбы на страницах этого репортажа?
Проблема прав человека. Правда жизни и кривда пропагандистского зеркала.
И правда разбивает мутное отражение вдребезги.
... Четверг, 15 сентября 1983 года. Половина третьего ночи. На перекрестке Первой авеню и 14-й стрит учащенно бьется пульс разгульного Нью-Йорка. У порноклуба для избранных сгрудились черными блестящими аллигаторами «кадиллаки». Шоферы в фуражках не дремлют—бессонница входит в ассортимент оплаченных услуг. Станция подземки «Юнион-сквер» выбрасывает наружу горожан, что попроще.
Внизу на перроне раскачивается с пятки на носок, массирует себе поясницу резиновой дубинкой Джон Костик. Еще молоденький полицейский, а кое до чего уже дослужился. Сегодня у него в подчинении два офицера — ночной патруль транзитной полиции.
И вот тут-то на глазах у Костика происходит возмутительное бесчинство. Прямо плевок в лицо общественной морали. Гибкий, с шапкой волос в стиле «афро» негр прощается на перроне с подругой. И что бы вы думали?! Целует ее! Белую женщину целует, образина!
Костик привычным движением выдернул из-за пояса нейлоновый шнур — он недавно заменил в отзывчивой на технический прогресс Америке стальные наручники.
Час спустя фургон доставил Майкла Стюарта в участок. Точнее, доставил того, кто был когда-то Майклом Стюартом. Человек был связан по новейшему полицейскому методу, именуемому «кабан». Локти заведены за спину и стянуты там со щиколотками — вот чем хорош нейлоновый шнур.
Несмотря на сплошные кровоподтеки — их потом насчитали около шестидесяти,— арестованный даже не стонал. Лежал на полу фургона тихо, спокойно.
Когда его швырнули из машины на землю, тоже порадовал полицейский наряд примерным поведением: не издал ни звука. Как обнаружилось чуть позднее, у Майкла Стюарта уже пропал пульс.
Сердце запустили массажем. Руководствуясь заботой о здоровье арестованного, доставили его в госпиталь Белльвю.
Если он прожил там всего 13 дней, то полицейские здесь ни при чем: на то воля божья.
На всякий случай главный патологоанатом Нью-Йорка д-р Эллиот Гросс произвел вскрытие, на котором почему-то присутствовали два полицейских детектива. Процедура продолжалась невиданно долго — 6 часов. Потом офицеры совещались с патологоанатомом в его офисе.
Заключение Гросса успокаивает своей обыденностью: «инфаркт».
Много позднее Зигфрид Оппенхайм, медицинский стенограф, которому Гросс диктовал по ходу вскрытия, подаст в отставку. Он признается репортерам: «В те минуты я оцепенел от ужаса. Гросс полностью игнорировал все, что привело к смерти, и, главное, фотоснимки. Где упоминание о кровоподтеках в описании причины смерти? Где упоминание о том, что смерть наступила, когда он (Майкл Стюарт.— В.С.) находился в руках у полиции? Ведь все это нужно указать в заключении. Нет, я ухожу, чтобы не иметь никаких дел с этим проклятым местом!»
Ни стенограф, ни журналисты еще не знали тогда, на что способен скальпель д-ра Гросса.
Власти быстренько помогли похоронить Майкла Стюарта, двадцатипятилетнего студента-художника. Надеялись, что заодно зароют и преступление.
...Тем временем нашему второму герою, чечеточнику Раймонду Гринвуду, тоже пришлось несладко. Правда, мытарства его в родной Америке намечены лишь штрихами.
Чечеточник он, ясное дело, гениальный, но с работой все равно туго. Тут подвернулась война во Вьетнаме. Отбивать дробь ему предложили не ногами, а с помощью автоматической винтовки М-16. В силу своей художественной натуры Раймонд, однако, не может осмыслить благородную задачу войск США в Юго-Восточной Азии, слегка заблуждается насчет целей американской администрации и совершает неожиданный шаг.
На такой зигзаг судьбы его соблазнила, конечно, русская переводчица Дарья. Хотя и шпионка, но красоты женщина неимоверной.
В России Раймонд хотел было познакомить широкие круги ленинградской интеллигенции с достижениями американского чечеточного искусства. И непременно на сцене Ленинградского театра оперы и балета. Надо было доказать самоочевидную истину — русский классический балет уходит своими корнями в заокеанскую чечетку.
Увы, в России, оказывается, свирепствует расизм. Талантливому исполнителю-негру только потому, что он негр, не дают отщелкать подошвами искрометное па-де-де с Одеттой-Одиллией. Сегрегация негров в Ленинграде доходит до того, что Раймонда с его Дарьей ссылают — куда? — правильно, в Сибирь...
... Нет, нью-йоркским властям не удалось закопать следы своей ненависти к черным вместе с гробом.
Среди борцов за расовое равноправие, негритянских активистов зреет убежденность: отцы города, полиция, суд, медицинские авторитеты — все они заодно в расистском заговоре. Его цель — скрыть расправу над Майклом Стюартом.
Родители Майкла дважды пытались возбудить судебное дело, но не могли пробить стену процедурного крючкотворства.
А число свидетелей убийства множится.
Когда Джон Костик с двумя «копами» выволокли Майкла из подземки и, согласно рапорту, «сдерживали его обычными средствами», они не знали, что на площадь Юнион-сквер выходят окна студенческого общежития.
Тогда, 15 сентября 1983 года, 20-летняя Ребекка Райс с подружками поздно вернулась с вечеринки. Только погасили свет, как с улицы донеслись душераздирающие крики: «Что я сделал? Ну что я сделал?!»
Ребекка метнулась к окну. В зареве пляшущего неона — дикая ночная сцена. Трое полицейских избивают молодого негра ногами. Один душил жертву, прижав к горлу резиновую дубинку. Под конец несчастный только стонал: «Кто-нибудь, помогите, о, боже, ну кто-нибудь...»
— А что потом? — допытывались у Ребекки репортеры.
— Человек замолк, перестал двигаться. Так, бездыханным, его и швырнули в фургон...
Полицейские нанесли Майклу Стюарту тяжелое повреждение шейных позвонков, по сути, забили до смерти, а потом солгали о том, что произошло. Двадцать три студентки стали очевидцами ночной расправы. Они готовы были засвидетельствовать: дело тут не в «инфаркте».
Мотивы убийства? Никаких, кроме въевшейся в психологию, как копоть в стены нью-йоркских небоскребов, ненависти к национальным меньшинствам, к «неамериканцам», которой давно страдает здешний аппарат репрессий. Такие настроения поощряются сверху. Расправа над черным рассматривается чуть ли не как шанс на повышение по службе. В худшем случае — как джентльменская шалость. Скрыть ее — долг других джентльменов.
То, что всплыло позднее, читается как страничка из какой-то неопубликованной книги Стивена Кинга, мэтра литературы ужасов.
30 сентября, спустя несколько дней после официального вскрытия, д-р Эллиот Г росс в одиночку прокрался в судебный морг. Главный патологоанатом Нью-Йорка совершил там то, о чем я могу рассказать только цитатой из еженедельника «Ньюсуик» — иначе поверить трудно:
«Позднее Гросс удалил у Стюарта глаза и поместил их в специальный раствор, который используется, по мнению экспертов, для отбеливания следов крови, этих красноречивых признаков удушения».
С кровоподтеками на американской демократии поступают по-научному—обесцвечивают их формалином.
... А чечеточнику Раймонду тоже худо. Полный зажим свободы ножного творчества в Советской Сибири. Комиссары обрекли выдающегося негритянского танцора на концерты в деревенских клубах. Раймонд поет и пляшет там «Порги и Бесс». Жена-переводчица Дарья думает, что Порги — это по-русски пироги, и подает их по вечерам к водке.
Антинегритянские настроения в Иркутске усиливаются. За Раймондом неотлучно следует по пятам зловещий полковник по фамилии Чайко. Запомнить нетрудно, поскольку он разъезжает на популярной русской автомашине «Чайка».
Расизм становится крепче сибирского мороза. Чайко приводит чечеточника на каменоломню, где трудятся орды политзаключенных, и грозит: «Вот куда я тебя упеку, черномазый!»
Раймонд понимает, что выбрал не ту социально-политическую систему, и решает бежать с Дарьей обратно в Америку, с тем чтобы бороться с тамошней безработицей и прочими мелкими вывихами демократии силой своего дарования. На что Дарья отвечает: «Милый, я беременна».
... Я сижу в зале верховного суда штата Нью-Йорк в нижнем Манхэттене. Пройти сюда было непросто. Зал обложен полицией, как какой-нибудь каземат строгого режима. Несколько раз требовали предъявить пресс-карточку, прогнали сквозь металлодетектор, как в аэропорту, заставили сдать портативный магнитофон.
Идут последние часы процесса по делу Майкла Стюарта. Да, народный гнев все-таки вырвал у властей согласие на суд. Правда, через полтора года после гибели Майкла. Правда, шесть офицеров полиции обвиняются не в убийстве, а в том, что «допустили смерть», когда человек был под арестом.
А что арестовали за прощальный поцелуй? Об этом ни слова.
И кто убил-то? Сформулировано так, будто машиной сбило.
— Это фарс!—шепчет мне на ухо Питер Ноэл, корреспондент «Амстердам ньюс».— Смотри, все исполнители фарса — белые. Шесть обвиняемых, шесть защитников, два прокурора, двенадцать присяжных заседателей, судья и даже все судебные писари — все до одного белые. Белая Фемида, черная жертва...
И зал, он тоже словно рассечен надвое невидимой стеной. Слева сидят друзья семьи Стюартов, репортеры негритянских газет, активисты борьбы за расовое равноправие. Темные лица, одеты просто, в повседневное.
Справа — набриолиненные проборы, яркие платочки в кармашках пиджаков. Это члены «Благотворительной ассоциации транзитных патрулей». Полицейский, так сказать, профсоюз. Его президент Вильям Маккечни не скрывает, что истратил на «юридическую подготовку» процесса 300 тысяч долларов. За такие деньги, надо думать, подготовили, как надо.
Секретарь бубнит стенограмму показаний Ребекки Райс. Вопрос: «Что делал обвиняемый в это время?» Ответ: «Обвиняемый приложил резиновую дубинку к горлу Стюарта и надавил всем телом». Вопрос: «В это время?» Ответ: «В это самое время».
Присяжные попросили освежить в памяти показания кое-каких свидетелей. Уже седьмой день делают вид, будто решение по делу дается им с неимоверным напряжением.
Затем жюри опять удаляется совещаться. Зал нервно, настороженно ждет. Художница из какого-то журнала набрасывает цветными мелками портрет судьи Джеффри Атласа. Получается вдумчивый волевой образ. Особенно похоже вышли бронзовые буквы на стене: «В бога мы верим». Тот же девиз, что и на бумажных долларах.
На первой скамье зала застыла, держит в руках пустой, ничем не заполненный блокнот пожилая негритянка. Лицо будто из темного воска, который обдали жаром,— черты струятся вниз, в скорбь. Пять месяцев подряд сидит она так, с начала суда. Это Кэрри Стюарт, мать Майкла.
Подхожу, говорю, что советская «Литературная газета» готовит подробную публикацию. Кэрри Стюарт кивает, молчит. Сейчас не время и не место для интервью.
— Он был не юноша,— вдруг говорит мне Кэрри,— он был мужчина, взрослый человек...
Я понимаю ее: сейчас, в эти минуты завершаются два года ее отчаянной борьбы за право черного человека на справедливость.
Распахиваются двери:
— Присяжные пришли к решению!
Я смотрю на Джона Костика, того полицейского, что был главным в патруле. Красивое, холеное лицо расплывается в неконтролируемой улыбке. Костик лениво встает, рука с перстнем играет шелковым галстуком.
Судья задает 21 вопрос. По разным пунктам обвинения.
Каждый раз председатель жюри присяжных отвечает: «Невиновен».
Майкл Стюарт, бруклинский художник,— в земле сырой, два десятка людей были прямыми очевидцами убийства, главный патологоанатом многомиллионного города, как голливудский д-р Франкенштейн, кощунствовал над трупом и трижды менял заключение о причине смерти, а виноватых нет.
Где сыны твои обретают гражданские права, Америка? Похожее, только на кладбище.
В те дни у конторы прокурора штата Нью-Йорк ходила кругами цепочка людей. Они скандировали:
— Помнить Майкла Стюарта! Остановить «копов»-убийц!
Но толпы обывателей тянуло в другое место: к кассам кинотеатров. Там на экране от стены до стены в квадрофоническом грохоте рока отбивал каблуками дробь гениальный чечеточник Раймонд Гринвуд, герой нового боевика «Белые ночи». Сбежал-таки от красных расистов! Порадовал американских кинозрителей под рождество.
«Убедительно! Фильм несет на себе печать величия!» («Пиплс мэгэзин»). «Один из лучших фильмов года!» (Телестанция Си-би-эс). «Сенсационно! Фильм отмечен поразительной изобретательностью и модной концепцией. После него вы полетите, как на крыльях!» («Нью-Йорк пост»).
Концепция, действительно, модная: антисоветчина на тему прав человека. А с другой стороны — чечетка на могиле Майкла Стюарта.
Здешние идеологи, похоже, действуют по методу д-ра Гросса. Отбеливают следы удушения прав человека у себя дома, в Соединенных Штатах...

5 Взгляд на Бродвей и на многое другое
Вкус Бродвея можно все более определить словечком «поп»—популярный в смысле вульгарно-массовый. Он, этот вкус, вытягивает соки из всего серьезного. Постановка пьесы, где герои не только произносят слова, но и мыслят, почти невозможна...
Артур Миллер, известный американский драматург
Великий путь в банк
Захотелось попить чайку. Я выпросил у соседки клетку с ее любимым попугаем и отправился на Бродвей, в театр.
Надо было ловить момент. Дело в том, что на дневном представлении одной пьесы администрация сервирует для зрителей бесплатный чай. Этакая закуска перед пищей духовной.
В том же театре был объявлен конкурс на замещение роли Тутса, говорящего попугая. По ходу спектакля Тутс декламирует стихи. Слова произносит, конечно, актер, а попугай изображает страсти под фонограмму. Теперь у любителей пернатых появился шанс выпустить под огни рампы свою собственную птичку. И заодно поинтересоваться: «А что, кстати, в этом театре идет?»
Действительно, что идет сегодня на Бродвее?
Куда вообще идет американский театр?
К ответам на эти вопросы не так-то легко пробиться сквозь зазывные трюки с даровыми чаепитиями и одаренными какаду. Почему-то застенчива на этот счет и американская критика.
С чего начнем? С прогулки по Бродвею.
«Великий белый путь» — так окрестили туристические справочники эту нью-йоркскую магистраль. Она перечеркивает остров Манхэттен по диагонали, разрывая безукоризненную сеть его авеню и улиц. Шагаю под вечер по самому бойкому отрезку — от памятника Колумбу вниз, к площади Таймс-сквер.
Кто сказал, что Бродвей развлекает? Он суетится, шумит, воет полицейскими сиренами, душит пешехода выхлопными газами. И продает, продает, продает. Бизнес выплеснулся прямо на тротуар. На расстеленных на асфальте ковриках — груды галстуков, наручных часов, пластмассовая всячина. От тележек под цветными зонтиками доносится запах пригоревшего хлеба. Уличные кулинары подогревают там бродвейское фирменное блюдо — соленые крендели; их едят здесь с горчицей.
С 50-й улицы и ниже Бродвей наконец вспоминает о своей славе великого развлекателя. В гул автомобильных моторов врываются ритмы рока. Неон сходит с ума, зазывалы хватают за рукав.
Зовут, ясное дело, не на Шекспира. Театральная муза изгнана с Бродвея в сторонку—на боковые улицы. Залы на самом «великом белом пути» захвачены кинодельцами, делающими быстрые, потные доллары на целлулоидной похоти. Репертуар в одну дуду: «Взбесившаяся плоть», «Эротические похождения монашенки»...
На Таймс-сквер у памятника какому-то армейскому капеллану закрутилась в несколько витков очередь. Люди часами стоят к небольшому киоску. Место знаменито на весь город. Сюда бродвейские театры сбрасывают к вечеру непроданные билеты, и тут, если повезет, можно приобщиться к искусству за полцены.
А за полную цену? Как говорят американцы, «бумажник не вытерпит». Как все в Америке, театр безумно вздорожал. Билет на бродвейскую постановку вам продадут не меньше, чем за 35—50 долларов, да еще шлепнут на нем штамп: «Обзор сцены ограничен».
Посмотреть пьесу дорого, но поставить — еще дороже. Продюсеры сваливают на зрителя подскочившие до небес постановочные расходы. Подмятый Голливудом, запуганный телевидением театральный Бродвей превратился в своего рода ипподром, где финансисты от искусства устраивают скачки премьер. Финишная ленточка—это попадание новой постановки на обложку журналов «Тайм» или «Ньюсуик». Это премия «Тони», которая равнозначна кинематографическому «Оскару». Короче, все, что создает вокруг премьеры ореол «гвоздя».
Сегодняшний Бродвей — похоже, не обитель театра. Ящик для «гвоздей»? Скорее всего...
Впрочем, послушаем Джозефа Паппа. Крупнейший театральный продюсер и режиссер беседует со мной в конторе своей постановочной фирмы «Нью-Йоркский шекспировский фестиваль».
Фирма уникальна, потому что не приносит доходов. За тридцать с лишним лет ее существования Папп покаэал бесплатно Нью-Йорку почти всего Шекспира на сцене летнего театра, построенного на лужайке в Сентрал-парк.
Откуда же деньги? Немножко помогают городские власти. Чуть больше — богатые покровители. Но основной капитал ссудил все тот же проклятый и милый его сердцу Бродвей. Там уже больше десятилетия гремит, не сходит со сцены поставленный Паппом мюзикл «Кордебалет». Чего удачу таить — принес миллионы и миллионы долларов! Настоящий «хит» — удар по карману зрителя.
— Читал где-то, что вы взялись было за другой мюзикл, «Человеческую комедию»,— говорю я.— Как с ней дела?
— Неважно. Потеряли на постановке миллион. И это еще «офф Бродвей», то есть на театральной окраине. Если бы я ставил «Комедию» на Бродвее, она бы обошлась в пять, а то и шесть миллионов. Иные мюзиклы влетают в восемь! Безумная дороговизна. Театр — это, знаете, ручная работа. Мы — не Голливуд. Не можем тиснуть тысячи копий и разослать по стране.
— А сколько стоит на Бродвее социальная пьеса?
У Паппа изумленно лезут вверх брови.
— Не только социальная, просто любая серьезная пьеса выжить там нынче не может. Без хитрости, без какого-то трюка — нет, не может...
Я вспоминаю конкурс на замещение роли попугая Тутса.
Папп же увлеченно рассуждает о взаимосвязи коммерции, зрительской аудитории и самой драматургии.
Из-за ориентации Бродвея на развлекательное, высокодоходное зрелище за последние 25—30 лет почти исчезли зрители, которые могли бы воспринимать серьезный театр, считает он. Сама традиция посещения театров изменилась. Теперь люди отправляются туда отпраздновать юбилей, день рождения. В другой раз сотню долларов не выкинешь. Состоятельная публика, «юбилейщики» да иностранные туристы — вот нынешние завсегдатаи Бродвея.
Плохо, что американцы уже не берут в театр детей, качает головой Папп.
— Река не пополняется мальками, а косяки театралов вымирают.
Изменения в составе аудитории влекут за собой изменения в характере драматургии. Драматурги спрашивают себя: «Для кого мы творим?»
Джозеф Папп не одинок на панихиде по Бродвею. Исследователь американского театра Уильям Макдугал пишет:
«Критики утверждают, что «великий белый путь», по существу, расстался со своей ролью отца американской драмы и теперь мало что предлагает кроме мюзиклов и импорта из Британии».
Восемь вечера. Длиннющие, будто склеенные из двух-трех автомашин лимузины с темными стеклами мягко швартуются у театральных подъездов. Дамы в мехах шествуют прямо в зрительный зал — гардеробов часто нет вообще. В фойе бармен бойко торгует крепким спиртным и картонными ведерками с воздушной кукурузой. Храм американской Мельпомены принимает своих состоятельных гостей.
Зайдем вслед за ними и мы.
О, американский мюзикл! С чем только не сравнивали тебя — с игристым шампанским в хорошо охлажденном бокале. С творожным тортом, увенчанным башенкой из взбитых сливок. Бесспорно одно: в своих лучших образцах — это типично национальный жанр. В нем отбивает чечетку жизнерадостная душа американца. Заливается трелями его талант веселиться, даже если кругом все проваливается в тартарары.
Да, на мюзиклы американские постановщики мастера!
Но что это? Какой музыкальный спектакль объявлен лучшим в этом сезоне? Кому присудили семь премий «Тони», премию критиков да еще награду фирм звукозаписи «Грэмми» за лучший диск с записью бродвейского шоу?
Импорту из-за океана. Английскому мюзиклу «Кошки» — композитора Эндрю Ллойда Уэббера, который прославился в свое время рок-оперой «Иисус Христос — суперзвезда».
О «Кошках» трудно что-либо сказать, кроме того, что это про кошек. 36 актеров, одетых в шкуры разной масти, выскакивают из подпола, свисают с потолка и вообще валяют под музыку дурака. Зато хорошо обстоит дело с освещением. Лучи прожекторов, вспышки блиц-ламп создают ошеломляющую световую вакханалию.
«Кошки» — прекрасный пример того, куда, как считают, идет музыкальный Бродвей. От сюжета остается шокирующий гротеск. От актера — карнавальная маска. А от пения и танцев — эротическая акробатика.
Главный герой сегодняшнего мюзикла—это магия технологических эффектов, украденная у рок-концертов. Бродвейские шоу ставят не столько хореографы, сколько инженеры, консультирующие, как стрелять цветными лазерами, как наводнить сцену голографическими миражами.
Короче, творческий накал на Бродвее порой измеряют в ваттах и вольтах.
В мюзикле «Воскресенье в парке вместе с Джорджем» оживает полотно французского импрессиониста. Актеры бродят среди деталей трехмерной картины, созданной с помощью видеоэлектронных эффектов. Время от времени лазер набрасывает на головы зрителей световое «покрывало».
Другой образчик бродвейского модернизма — мюзикл «Ребенок» ошарашил публику несколько лабораторным решением темы деторождения. Героиня долго мучается, забеременеть ей или нет, а если да, то от кого. Когда сомнения позади и пора покупать детскую коляску, режиссеру все еще жалко расставаться с любимым предметом познания. На сцене возникает экран, на который проецируется нечто вроде танца эмбрионов. Искусство изучает жизнь, так сказать, под микроскопом.
В мюзикле «Девять» распяли в двух актах личную жизнь некоего итальянского кинорежиссера Гидо Контини. Действие происходит на кладбище. Героини девяти романов любвеобильного Гидо отпевают там своего единственного, несравненного. Одной красотке даже удается вытребовать режиссера с того света. И заново соблазнить на его же собственной могильной плите!
Вот новинки Бродвея конца 80-х. Такие мюзиклы сменяют друг друга каждые несколько месяцев, как только зрителю становится скучно от очередного набора трюков.
Рядом с ними, забившись в уголок театральной афиши, годами живут-поживают классические музыкальные спектакли вроде «Сорок второй улицы», «Кордебалета». Бродвей рассказывает там о Бродвее. Звонкоголосый легконогий Нарцисс любуется собой в потускневшем, старинном зеркале.
Впрочем, никто, конечно, не ждет от мюзикла каких-то раздумий. Ему бы, этому исконно американскому жанру, дай бог, уберечь свою радостную чистоту от нашествия коммерции.
Вот мнение Гэролда Принса, крупнейшего режиссера, лауреата 15 премий «Тони», постановщика таких знаменитых музыкальных спектаклей, как «Скрипач на крыше» и «Эвита»:
— Сейчас, когда мюзикл обходится в три, четыре и пять миллионов, основная часть денег поступает от корпораций и людей, больше заинтересованных в доходах на вложенный капитал, чем в художественных началах музыкального театра. Для тех, кто ставит, пишет и играет,— это оскорбление...
Какие только заговоры не плетутся на Бродвее во имя доллара!
Скажем, для мюзикла всегда важно получить премию «Тони»—она продлевает ему жизнь. В 1982 году премьера спектакля «Девять» должна была состояться 9 мая — в последний день, когда он мог претендовать на награду. Конкурирующая продюсерская фирма «Шубертс организейшн» — она владеет 16 бродвейскими театрами—опасалась, что «Девять» перехватит премию у ее спектакля «Девушки с мечтой».
Что делать? Один из авторов «Девяти» рассказывал мне: «Шуберте организейшн» предложила взятку в миллион долларов, только бы сдвинуть премьеру на день позже. Не вышло. Тогда подговорили нью-йоркскую корпорацию электроснабжения, чтобы та отключила дополнительные киловатты, на которых в «Девяти» держались все световые эффекты.
Вот так рубильником — раз!—и не быть премьере! Сиди во тьме и рассуждай о творческой свободе на американской сцене...
Каждое воскресенье «Нью-Йорк санди таймс» публикует театральную афишу Бродвея. Обычно там два-три десятка спектаклей. Около половины — мюзиклы. А что же остальное?
Так называемые серьезные драмы.
Неужели жив еще на Бродвее социальный театр?!
Не будем спешить с заключениями. Послушаем Фрэнка Рича, одного из вдумчивых наблюдателей театрального пейзажа:
— Большинство из того, что громогласно приветствуют в Нью-Йорке как серьезный театр, а потом разносят по провинции гастролирующими труппами,— говорит критик,— на самом деле вовсе несерьезно.
Критерием серьезности здесь выступает то, что более всего привычно для американского обывателя — телевизионная драма. Опять-таки слово «драма» нужно взять в кавычки. Сколько-нибудь глубокий конфликт телевидение показать себе не позволит. Зрителя держат в шорах. Ему не дают ошибиться в том, кого нужно оплакивать, а кем восхищаться.
Те же вкусы и на Бродвее.
В пьесе «Затемненная палата» автор Майкл Кристоферсен мощно доказывает такую мораль: кого разбил паралич, тот достоин всяческого сочувствия окружающих. Окружающие сочувствуют. Сочувствует и зритель, радуясь собственной добродетели.
Сюжет драмы Марка Медоффа «Дети младшего бога» вращается вокруг прискорбной истории о милой девушке, которая лишена слуха от рождения. Это печально. По мнению автора, девушка достойна лучшей судьбы. Она ее и добивается. Режиссер удачно нашел на роль героини актрису, тоже глухую от рождения. Происходит удивительное слияние авторского и постановочного замысла.
Пьеса Бернарда Померанса «Человек-слон» роет в глубь той же медицинской темы. Она повествует реальную историю англичанина, который, опять-таки от рождения, страдал чудовищной деформацией скелета и мягких тканей. Нашелся гуманный врач, который взял несчастного в госпиталь. Знатные дамы стали вести там с ним светские беседы, жертвовать на лечение. «Человек-слон», правда, в госпитале же и умер, но обласканный обществом.
Вот и все. Кто против ухода за тяжелыми больными? Никто.
Дэвид Мэмит, самый, как считают, яркий талант в молодой поросли американских драматургов, сказал о куцей морали подобных пьес:
— Или милые вещи случаются там с милыми людьми, или очень дурные вещи—телесные повреждения, болезни — случаются опять-таки с милейшими людьми. В любом случае нас кормят монологами о неизбежных событиях. На Бродвее это выдается за драму...
Не только. Заглянем часа на три в театр «Плимут», где с аншлагом, под неутихающий грохот хвалебных рецензий шла в те дни «Настоящая вещь» Тома Стоппарда. Еще бы — премия «Тони» за лучшую пьесу сезона. Драматург, правда, англичанин, исполнитель главной роли — англичанин, но куда скроешься на Бродвее от импорта?
После «Затемненной палаты» сюжет «Настоящей вещи» приятно поражает своей сложностью. Даже, я бы сказал, неуемной закрученностью.
Судите сами. В первой картине героиня Шарлотта является домой, а муж Макс тут как тут с уликами ее супружеской неверности. Во второй картине Шарлотта предстает уже прямо с любовником в процессе иллюстрации этих обвинений. Логично? Ан нет, это, оказывается, не любовник, а ее настоящий муж Генри, драматург. Первая сценка была отрывком из пьесы Генри, в которой играют Шарлотта и Макс.
Акт второй. Тоже нельзя ослаблять внимание. Кто, выясняется, грешен в измене, так это, наоборот, сам Генри, не устоявший перед прелестями жены Макса—Энн, А вот еще один сюжетный зигзаг. Энн бросает Макса и выходит за Генри. Но только для того, чтобы изменить ему с Билли, молодым актером из другого спектакля.
Все просто, как блин.
Неужели этот рог жизненного изобилия удалось опорожнить в одну-единственную пьесу? Представьте, да. Не поместилась самая малость. Зритель уходит в недоумении: в чем же Стоппард усмотрел ту самую «настоящую вещь», торжественно вынесенную в заголовок? Смысл тонет в словесной эквилибристике, как сюжет — в хаосе любовных приключений.
— «Настоящая вещь»?—иронически переспросил меня Джозеф Папп.— Скажем лучше, неправдивая пьеса. Автор притворяется, будто озабочен свободой отношений мужчины и женщины. На самом деле Стоппард—словесный трюкач. Описывает самого себя, а все другие образы — манекены из соломы...
— Почему же публика валит валом? Почему критика так льстит?
— По-моему, многое надо отнести за счет блистательной постановки режиссера Майка Николса. Сказалось и то, что пьеса получила «Тони» как «гвоздь сезона». Кому не любопытно посмотреть «лучшую драму года»? Магия Бродвея еще завораживает. И, наконец, не забудьте о Джереми Айронсе...
В последнем замечании Паппа, пожалуй, большая доля истины. Звезда молодого английского актера Айронса стояла тогда в зените международной славы. После фильма «Женщина французского лейтенанта» о нем много говорили, много писали. Нервное, изысканное, как орхидея, дарование. Как здесь выражаются, «горячий актер».
На этом жаре популярности Бродвею и удалось сварить «лучшую постановку сезона».
Действительно же талантливую, тем более социально острую драматургию Бродвей проглатывает с трудом. Пример: непростая судьба пьесы Дэвида Мэмита, названной малопонятным словосочетанием «Гленгэрри Глен Росс».
Так одна контора по продаже недвижимости окрестила земельные участки во Флориде, которые она распродает под строительство домов. Гленгэрри... В этом есть что-то шотландское. Веет свежестью девственных озер, нескошенными, забытыми лугами.
На самом деле Гленгэрри—это засушливые пустыри! Объегорить покупателя-разиню, всучить ему заведомо никуда негодное, всадить дружку нож в спину, если у него в кармане хотя бы доллар,— по таким законам живут герои Мэмита. Пьеса сродни «Смерти коммивояжера» Артура Миллера. Мир бизнеса предстает как джунгли, где выживает тот, у кого клыки острее.
Не погибни Миллеровский Вилли Ломен, он, а не торгаш Ричард Рома мог бы бормотать в замызганном китайском ресторанчике вот этот монолог?
— Вот я и спрашиваю, что есть наша жизнь?.. Чего мы боимся? Потерь. Чего еще? Банк закроется. Заболеем, жена погибнет в авиационной катастрофе, рынок акций обанкротится... Дом сгорит... Что-нибудь этакое происходит? Ничего подобного. А тревоги все равно нас не покидают. Что это значит? У меня нет спокойствия, безопасности. Как я могу обезопасить себя? Накоплением богатства сверх всякой меры? Нет. . Нет никакой меры. Есть только жадность...
«Гленгэрри» пробилась на Бродвей трудно, окольной дорогой. «Великий белый путь» отбрыкивался от пьесы, как мог. Ее поставили сначала в Лондоне, потом в Чикаго. И только после этого коммерческого разгона группа продюсеров и режиссер Грегори Мошер рискнули вложить 600 тысяч долларов в бродвейский вариант.
Спектакль едва себя окупил. И то финансовая удача. Ее могло не быть, не получи Дэвид Мэмит за «Гленгэрри» премию Пулитцера.
Деньги, деньги, деньги...
Не искусство театра, а зеленые долларовые бумажки выращивает Бродвей в теплицах своих залов.
Я раскрываю свежую газету. «Самый счастливый сезон в истории Бродвея!» — стонет от восторга заголовок.
Как так? Более десятка бродвейских театров пустует. Английский импорт вытеснил со сцен все отечественное. Неравнодушная к бедам общества драма изгнана в глубинку. И «самый счастливый сезон»?
Самый денежный, уточняет газета. В кассах набежало на 3 миллиона долларов больше, чем годом раньше. Здесь не знают другой формулы кроме: успех = деньги.
— А кого-нибудь у нас волнует, в какую дыру проваливается один из наших великих институтов?—вздыхает Джозефф Папп.— Куда бредет Бродвей? Никого. Никому дела нет...
Естественно. Главное, чтобы добрел до банка.
Расправа над премьерой
У театра «Мюзик бокс» бойкий адрес: 46-я улица нью-йоркского Манхэттена. Самое что ни на есть чрево Бродвея-развлекателя. Неподалеку в другом заведении какой уже год идет сальный фарс под названием «О, Калькутта!». Туда спешат по вечерам туристы из Западной Европы, из Японии. Нельзя же прикатить в Нью-Йорк и не взглянуть хотя бы одним глазком, как американский театр остается без исподнего. Тем более называется это ох как красиво; плюрализм.
Вот тут-то, в утробе Бродвея, все это и случилось.
Театральный сезон 1984 года завершался, продюсеры подсчитывали свои доходы, зрителя тянуло на старые, добротные мюзиклы, в большинстве залов актеры уныло разглядывали со сцены ряды пустых кресел, когда грохнула, заставила говорить о себе, разбудила всех и вся эта новая премьера.
Приметы успеха бросались в глаза. Билеты на спектакль перестали поступать в городские кассы. У подъезда «Мюзик бокс» круглосуточно дежурила стая театральных «грифов». Мне пришлось долго козырять своей корреспондентской карточкой, прежде чем администраторы снизошли к нуждам прессы.
А событие и вправду было удивительное. На Бродвее давали пьесу про ядерную бомбу! Известный драматург Артур Копит выставил на суд людской свою новую работу — «Конец света с последующим симпозиумом».
Программка читалась, как список модных «звезд». Режиссер—уже знакомый нам Гэролд Принс, лауреат бесчисленных премий «Тони». В одной из главных ролей — Линда Хант, та, что получила в 1984 году «Оскара» за свой актерский триумф в фильме «Год опасной жизни». Думающая, непривычная для Голливуда актриса.
Что же это, мюзикл о ядерной опасности? Опять злобная карикатура на антиракетное, мирное движение Америки? Такие уже были. Такие растут, как грибы-поганки, на удобрениях из президентских намеков насчет того, что участники антивоенных демонстраций — это, мол, «агенты Кремля».
А если «Конец света...» — действительно антиядерная пьеса-предупреждение? Тогда как стерпели такую крамолу финансовые отцы Бродвея? Откуда эта самоотверженная смелость у постановщика, у актеров? Ведь призрак маккартизма дышит Америке в затылок. Сейчас антивоенная тема в искусстве—лакомый кусок для искусствоведов в штатском из Федерального бюро расследований. Через полвека, глядишь, рассекретят их «рецензию»: «Спектакль, организованный подрывными элементами, угрожает национальной безопасности и разглашает секреты военной политики администрации...»
И вот я в зале театра «Мюзик бокс».
Когда занавес опустился в последний раз, снова заглянул в программку. Неужели в пьесе в самом деле три полномерных акта?
А ощущение — как от вспышки импульсной лампы тебе в глаза. Потрясение. И расплывающиеся радужные круги первых впечатлений, когда ясно только одно: пьеса попала в больной нерв Америки. Автор сказал многое из того, что нужно было, преступно было бы не сказать в дни, когда страна угорела от милитаристского азарта администрации.
А тут, в «Мюзик бокс», люди три часа дышали свежим кислородом здравого смысла. И понимали это. В антракте у бара маячили две-три фигуры. Зато в курительной было людно и шумно. Самое удивительное, что споры шли не столько о пьесе, о постановке, об игре актеров—спорили о политике, в которую запрягли страну люди Рейгана. Как бы сообща взвешивали на ладонях ядерную угрозу и соглашались: да, великая опасность, если не спохватиться, не остановить...
Потом мы с женой шли домой по задремавшему, спрятавшему свои огни Бродвею и почти кричали от возбуждения, обсуждая спектакль под любопытными взглядами редких полицейских. Пришли к выводу, что надо позвать на «Конец света...» друзей-театралов. Такое пропускать нельзя.
Назавтра звоню администратору «Мюзик бокс»:
— Это такой-то, помните? Можно ли заказать еще несколько билетов? Уж очень понравилась ваша премьера.
— Нельзя,— голос глухой, опущенный.— Пьесу уже сняли.
— Как сняли?! Когда? Вчера же шла... Почему?
— Нет зрителей.
— Что вы говорите! Зал был полон. У подъезда, сам видел, толпа не расходится.
— Рецензии плохие.
— Ну, смотря в какой газете. А что же, если критикам не нравится пьеса, но зритель рвется на нее, ее, пьесу, все равно кто-то может у вас закрыть, как свой личный шкафчик?
Администратор долго молчала. Потом невнятно, путано заговорила, что надо, мол, смотреть вперед, на два-три месяца вперед. А тогда, наверное, интерес погаснет, и театр, вероятно, прогорит. Лучше уж задушить больное дитя своими руками...
Итак, зал «Мюзик бокс» вдруг опечатали, будто комнату, где свершилось преступление. Впрочем, это можно понять. Можно было даже предвидеть.
Таинственные, но мощные силы, которые недреманно дежурят за кулисами театрального Бродвея с чековой книжкой в одной руке и навесным замком — в другой, сразу встали на дыбы, как только им стала ясна резко антивоенная, откровенно антирейгановская направленность пьесы Артура Копита. Придушили не «больное дитя» — саму свободу творческого выражения.
Но самое интересное для меня было в другом. Не сознавая того, мы разыграли с администратором эпизод из... вчерашнего спектакля. Прочли друг другу копитовские строки, как по писаному. Ведь сюжет «Конца света...» как раз об этом — некий человек с деньгами по имени Филип Стоун хочет поставить антивоенную пьесу, а старожил театрального Бродвея, литературный агент Одри Вуд предупреждает: нужно быть готовым к тому, что ее быстро прикроют.
Стоун. Почему?
Одри. Ну, как я уже сказала, очень может быть, что она не понравится критикам. Просто из-за темы. Откровенно говоря, если я только не упустила чего-либо существенного, тема кажется мне слишком приземленной.
Стоун. Простите, не совсем понимаю. Если критикам не нравится пьеса, я должен ее снять?
Одри. (Озадачена.) Понимаете ли... нет, конечно...
Стоун. Тогда не сниму... Решается будущее планеты. Нельзя снять пьесу, где решается вопрос о будущем планеты...
Нет, можно!
Оказывается, в сегодняшней Америке это проще простого.
Причина таких действий цензуры в том, что автор пьесы позволил себе мысли вслух о немыслимом и в то же время о самом тревожном и насущном — об угрозе ядерного конфликта.
У «Конца света...» — не только необычный сюжет, но и оригинальная форма. Это пьеса в пьесе. Уже знакомый нам Филип Стоун заказывает молодому драматургу Майклу Тренту антиядерную драму, чтобы предупредить человечество о последней и потому страшной опасности. Три действия, которые проходят перед нами на сцене,— это творческий процесс создания такой пьесы. Трент перевоплощается в частного детектива и ведет расследование тайны, которой окутана ядерная политика американской администрации.
Перед зрителем — галерея образов, списанных автором с натуры. В генерале Уилмере, большой шишке из Пентагона, угадывается и шеф этого ведомства Каспар Уайнбергер, и его бывший помощник Ричард Перл. Специалист по русским проблемам, «настоящий ястреб» Стенли Берент — пародия на Збигнева Бжезинского, бывшего помощника президента по национальной безопасности.
Все это люди у ядерной кнопки и теоретики того, как правительство США должно ею, этой кнопкой, пользоваться. Впечатление от паноптикума, куда Артур Копит приводит зрителя, жутковатое. Под увеличительным стеклом сатиры прекрасно видно, что эти деятели рассматривают гонку ядерным вооружений как нормальное состояние цивилизации. И что еще более тревожно — как неизбежное средство решения конфликта двух социально-политических систем.
На первый взгляд может показаться, что американские стратеги, как они изображены в пьесе,—жертвы собственных доктрин. Теории словно управляют людьми. Все эти концепции «сдерживающего средства», «взаимно гарантированного ядерного уничтожения», «хирургической операции» и, наконец, «предвосхищающего возмездия»—вся эта звонкая словесность будто бы вынуждает официальный Вашингтон заниматься своим страшным делом — накоплением ядерной смерти.
Мужество Артура Копита в том, что он разоблачает этот обман. Никакой особенно мудреной ядерной философии за всем этим нет! Никакой тайны нет! Есть одно—стремление обеспечить себе преимущество для нанесения первого ядерного удара.
Генерал Уилмер. ... В нашем деле есть одна простая, фундаментальная истина, и она управляет всем, что мы делаем: парень, который бьет первым, берет верх.
Трент. Значит, вам нужно еще больше ядерного оружия, чтобы ударить первыми?
Генерал Уилмер. В кризисной ситуации? Абсолютно верно.
К тому же сводится и вся наука, какую нашептывает на ухо американскому президенту «специалист по русским проблемам».
Берент. ... Во всех сценариях, какие я только видел, сторона, которая наносит первый ядерный удар, без сомнения выигрывает. Поэтому, если тебя прижмет, бей первым, бей и все тут, особенно если ты используешь то, что мы называем «контролируемым ограниченным ударом по противнику»..
Драма, которую американский драматург пишет для постановки на Бродвее,— это, конечно, не статья в американском журнале «Прогрессив». Копит не находит места, чтобы сказать, а может быть, сам не знает, что Советский Союз в одностороннем порядке взял на себя обязательство не применять ядерного оружия первым. Персонажи «Конца света...» порой намекают, будто те же самые ядерные теории управляют и мышлением русских. В определенной степени Копит, конечно, отдает дань порочному тезису о какой-то «равной ответственности» и США, и СССР за скольжение планеты к краю обрыва.
И тем не менее вся логика пьесы, весь ассортимент образов, на которые обрушивается сатира Копита, подводит американского зрителя к выводу — взрыватель ядерного конфликта тикает в Вашингтоне. Тем более что театральная программка предупреждает: «Большая часть этой пьесы, особенно второй акт, озаглавленный «Расследование», основан на реальных интервью, взятых самим автором».
Иначе говоря, существуют не только безумные ядерные доктрины. В вашингтонских коридорах власти слоняются подлинные и всесильные фигуры, которые исповедуют ядерное безумие. Автор с ними знаком. Автор с ними беседовал.
Поэтому-то так разъярило негласную цензуру замечание, небрежно брошенное копитовским Стенли Берентом:
— Мы должны учиться вести ядерную войну рационально. И его ответ на вопрос, можно ли победить в термоядерном побоище:
— В ограниченной ядерной войне—да, можно.
Так они и в самом деле думают. Такие людоедские идеи и записывают в свои секретные стратегические директивы под разными многозначными номерами и шифрами.
Значит, мир имеет дело с безумными злодеями?
Этот тезис всплывает в диалоге Филипа Стоуна и драматурга Майкла Трента.
Трент. О'кей, я получил его.
Стоун. (С легкой нервозностью в голосе.) Получил что, сэр?
Трент. Ответ. Тайна разгадана. Я выяснил, почему мы обречены.
Стоун. Правда? Ну и почему?
Трент. Потому что судьба наша — в руках полных идиотов.
Автор пьесы «Конец света...» четко дает понять: Трент ошибается. Отказывать вашингтонским ядерным стратегам в интеллекте—значит изображать их менее опасными, чем они есть на самом деле.
— Как было бы в таком случае просто решить ядерную проблему!—восклицает Артур Копит.— Стоило лишь призвать Америку: «Давайте отделаемся от этих парней! Ведь они безумны!» Но я их видел — они другие. Поэтому-то я и не стал изображать их мелодраматическими злодеями. Зловещие усы, взгляд исподлобья... Нет, истина в другом. В том, что наши правительственные чиновники — это группка внешне очень милых, обаятельных и вроде бы набожных людей. Но они духовно отдалены от всей нашей человеческой семьи. Вот что опасно...
Мы беседуем с Артуром Копитом у меня в корпункте. В прорехах между высотными коробками посверкивает вечерним багрянцем река Гудзон.
Кто знает, быть может, вот так же отразится в ее глади зарево ядерной вспышки? Только очевидцы уже не расскажут.
«Таймс» снимает пенсне
Артуру Копиту под пятьдесят. Но короткая стрижка, живые жесты придают облику студенческую стремительность. Так и видишь его сбегающим по ступеням старинных католических соборов где-нибудь в университетском городке Принстоне.
Нет, поправляет меня Копит, он кончал Гарвард. Вырос в окрестностях Нью-Йорка, в семье, которую бы сейчас причислили к так называемому «среднему классу». Отец был коммивояжером, мечтал, чтобы сын стал ученым, инженером. А тот еще в Гарварде ушел с головой в журналистику, редактировал студенческие листки и уже тогда начал писать одноактные драмы.
У первой пьесы, которая принесла Копиту известность в США, довольно эксцентричное название — «О, папа, бедный папа, мама повесила тебя в чулане, и мне так грустно». Драма получила несколько премий, в том числе престижную — имени Вернона Райса. В одной советской работе 60-х годов ее с плеча заклеймили, как «крайнюю степень разложения театрального искусства». Критик судил, видимо, все по тому же названию.
На самом деле пьеса хотя и стилистически сложная, но не без гуманного замысла. Автор предупреждает о разрушительной силе некоторых, как он их называет, «защитных инстинктов».Героиня пытается защитить сына от окружающего мира, от жизни и, ограждая от боли, причиняет боль. Нельзя прожить жизнь без риска, без страданий...
Копит перестал получать премии, когда вьетнамская война выжгла из его творчества интерес к ущербным сторонам психики и подтолкнула к тому, чтобы оглядеться вокруг: как, когда накопилась в этом обществе та ненависть к человеку, которая убивала во Вьетнаме? Так возникла идея пьесы «Индейцы».
— Мои «Индейцы» вышли из джунглей Вьетнама,— вспоминает рождение замысла Копит.—То, что делала Америка во Вьетнаме, было этакой горячкой, в какую мы впадали и раньше. Я выступал против вьетнамской войны Считал, что даже в практическом смысле ее нельзя выиграть. Никто у нас тогда, по-моему, не мог взглянуть правде в глаза. Мы разрушали страну, говоря, что хотим спасти ее. А история с индейцами? То же самое. Нам попросту нужны были их земли, а они, индейцы, нам мешали...
Копит называет освоение Дикого Запада и попытку «освоить» Вьетнам своими именами: близорукость, отсутствие честности, лицемерие. Его, автора пьесы «Индейцы», интересовало, как создается мифология, оправдывающая позорную политику. Именно так понял главную мысль драмы и знаменитый кинорежиссер Роберт Олтмэн. Он поставил по ней фильм «Буффало Билл и индейцы» с Полом Ньюменом в главной роли. Фильм, считает Копит, получился.
Прозрение, что пришло к нему с вьетнамской войной, не стало божьим даром на час. Не легло на белые страницы, как под саван. Несправедливость общества, где ему довелось родиться, бесчеловечность политики, которую высиживают в своих кабинетах правительственные чиновники,— все это стало и его личным крестом, и его больной совестью.
Каким вырастет в таких условиях новое поколение американцев, тревожится мой собеседник. Что станет с его собственным сыном, которому уже 12 лет?
Я слушаю драматурга, а память почему-то накладывает на его слова заключительный монолог вождя Джозефа из «Индейцев»:
«...Мой народ... бежал туда, за холмы, и у него нет ни пищи, ни теплой одежды. Никто не знает, где они,— может быть, замерзли. Как нужно мне время, чтобы отыскать детей моих, хотя бы понять, кого из них можно найти! Быть может, я найду их среди мертвых...»
Летом 1982 года Артур Копит привел своего сына на грандиозную антиядерную демонстрацию в нью-йоркский Сентрал-парк.
— Решил, что ему очень важно там быть. Ядерная угроза висит над всеми. Сын уже не надеется, что у него будут дети, внуки...
В тот же год всплеска американского антивоенного движения драматург выступил с амвона нью-йоркской церкви перед членами организации «Писатели за ядерное разоружение». Зачитал любопытный документ — правительственную инструкцию, как взимать налоги после ядерной войны. Убийственная сатира на убийственную тему. Успех выступления, громкое эхо в прессе убеждают Копита: тема ядерной опасности подвластна фарсу, буффонаде. Ведь в жутком всегда есть несуразное, а значит, смешное.
Так исподволь, из тревоги за судьбу сына, из участия в антиядерных протестах вырастает, как деревцо в тумане, еще неясный, нет, не замысел, а скорее предощущение сатирической пьесы — о том самом, о немыслимом
А как родился сюжет «Конца света...»?
— Он автобиографичен,— рассказывает драматург.— Ко мне обратился один очень богатый человек и попросил написать нечто подобное. Словом, все было так, как рассказано в «Конце света...». Настоящее имя этого миллионера — Рональд Дэвис. Потом я потратил год на личное знакомство с поклонниками ядерной бомбы...
В театральной программке «Конца света...» перечислены имена тех, кто согласился встретиться с Копитом. И, не подозревая того, потряс драматурга бессмыслицей вашингтонских ядерных доктрин. Среди них — покойный футуролог Герман Кан, отпетый «кремлевед» Ричард Пайпс, «отец» американской водородной бомбы Эдвард Теллер.
Одновременно у Копита были консультанты и из другого лагеря. Его вдохновляли и поддерживали известные вожаки антивоенного движения США—Роджер Моландер, руководитель организации «Граунд зироу», и Леонард Дэвис. В некоторых эпизодах «Конца света...» просматриваются идеи, навеянные нашумевшей книгой Роберта Шиера «Если хватит лопат»,— документальным разоблачением ядерных игроков, обитающих в Пентагоне и повыше.
К каким выводам привело драматурга его расследование темы, интересуюсь я.
— Мы боимся правды. Американцы боятся поверить в возможность ядерного уничтожения. Не решаются думать о ядерной войне, как о конце всего сущего. Это — первое. А второе — это наша политика силы. Ядерное оружие делает политику нажима очень опасной. Ведь Советский Союз в таком случае не может не ответить ужесточением. Нашему правительству не хватает понимания невообразимого риска...
У Артура Копита есть еще одно важное разногласие с администрацией. Там, в Белом доме, не представляют, говорит мой собеседник, что значит быть Советским Союзом, так сказать, в географическом смысле. Страна окружена натовскими базами. Веками подвергалась агрессиям с Запада. Нужно ли растолковывать, что СССР хочет оградить себя от повторения черных страниц истории. Ведь в Москве знают, что в период Карибского кризиса, да и в других случаях кое-кто в американской администрации всерьез предлагал нанести первый ядерный удар...
Конечно, многое из этих размышлений драматурга осталось за полями пьесы «Конец света...». Но и то, что вошло в нее, глубоко взволновало ту Америку, что неравнодушна и к своей судьбе, и к судьбе планеты.
Известный театральный критик газеты «Крисчен сайенс монитор» Джон Бофорт назвал спектакль в «Мюзик бокс» «крупнейшим событием этого и любого другого сезона». «Пьеса полна значения. Она заставила меня много смеяться. Она заставила меня крепко задуматься»,— вторил с экрана комментатор телесети Эй-би-си Джо Сигел.
Непредвзятой, честной критике пришлось по душе и смелое столкновение сатирического жанра с, казалось бы, предельно серьезной темой. «Гэролд Принс поставил пьесу, как будто это последний мюзикл планеты, чьи ритмы — испуганные синкопы наших собственных сердец», — отозвался о бродвейской премьере еженедельник «Ньюсуик».
На волне успеха «Конец света...» выдвинули сразу на три премии «Тони». В частности, Линду Хант, исполнительницу роли литературного агента Одри Вуд, сочли достойной этой награды по категории «за выдающуюся работу актрисы в пьесе».
И все. И вдруг это подношение лавровых венков кончилось. Словно некто всесильный рванул в ярости какой-то рубильник и переключил услужливую прессу на обратный ход. Собственно, именно так оно и было. Уже затемно, когда в рамке окна вспыхнула радужная башня Эмпайр стейт билдинг, Артур Копит признался мне: пьесу прикончила та мощь, какой обладают люди, близкие к «Нью-Йорк таймс».
Эта газета и дала сигнал к травле автора «Конца света...». Со дня премьеры прошло всего три-четыре недели. Каждый вечер в «Мюзик бокс» был аншлаг. А солидная, щепетильная «Таймс» вдруг сбросила золотое пенсне интеллигентности и начала «рецензировать» пьесу чуть ли не теми словами, какие пишут тут на вагонах подземки. «Вывих в карьере писателя... провал... ему лучше бы сочинять о детском поносе(!), чем о грибовидных облаках».
Если такое позволила себе «Нью-Йорк таймс», то можно представить, в каком припадке сквернословия зашлась так называемая «массовая» пресса.
Изгнание беса инакомыслия с Бродвея началось.
Контраст между этим шельмованием пьесы и ее успехом у зрителя бросался в глаза. Артур Копит рассказывал мне:
— И режиссер Принс, и я считаем: такой бурной одобрительной реакции публики не вызывала ни одна наша работа. Мы получили мешки писем. Ко мне подходили на приемах члены Объединенного комитета начальников штабов и, оглядываясь по сторонам,— не слышит ли кто — говорили: «Все должны посмотреть эту пьесу». А ведь они — элита Пентагона, люди, от которых многое зависит...
Последнее замечание драматурга очень интересно. В те же дни мне самому довелось брать в Вашингтоне интервью у Джина Ларока, контр-адмирала в отставке, директора авторитетной неправительственной организации Центр оборонной информации. И тот тоже рассказал о подобном случае. Как-то на его лекцию пришли бывшие коллеги — 30 высших офицеров Пентагона. Тема была однозначная: ядерную войну выиграть нельзя. После выступления один офицер отвел Ларока в сторонку: «Знаете, адмирал, в ваших рассуждениях есть смысл. Вам нужно чаще встречаться с пентагоновской верхушкой. Многие у нас, в генеральской среде, разделяют ваши сомнения насчет сегодняшнего курса».
Роботы у ядерной кнопки начинают думать.
В этом, кстати, таится разгадка одного из важных образов пьесы — генерала Уилмера. Таинственный, являющийся зрителю как бы в двух ликах персонаж символизирует прозрение американских профессионалов войны. Многим из них ясно: система ядерного устрашения, которую они десятилетиями создавали своими руками, не может в конце концов не рухнуть. Как выражается герой пьесы: «Мы имеем дело с машиной, где аварии надежно гарантированы».
Только авария на этот раз равнозначна концу света.
Где же выход?
Обыватель возводит взгляд к небу. Его тянет в трясину бесчисленных религиозных культов, к увлечению сверхъестественным, иррациональным. Именно подобным эскапизмом объясняется кассовый успех таких голливудских боевиков, как «Индиана Джоунс и храм обреченности», «Внеземной», «Г номы».
— Идея у этих фильмов одна,— невесело иронизирует Артур Копит.— Вот явится этакий зеленый человечек с другой планеты, спустится какой-то божок и скажет: «Эй, парни, я знаю, что делать!»
Эту распространенную философию упования на чудо и высмеивает драматург в диалоге Пита и Джима, двух разработчиков ядерных сценариев. Порочный круг вашингтонских стратегических теорий, на их взгляд, может разорвать только ... пришелец с другой планеты.
Но и внеземным существам сегодня не очень уютно. В их владения вот-вот ворвется масса стреляющего лазерами, испускающего смертоносные излучения металла, именуемая «стратегической оборонной инициативой» президента Рейгана. На самом деле обороной здесь не пахнет. Космос пытаются освоить американские генералы, приспособить его под «звездные войны».
Когда я беседовал с Артуром Копитом, эта опасность уже кричала со страниц газет, с телевизионного экрана.
— Отношения между нашими странами должны улучшиться — вот где выход,— взволнованно говорил драматург.— Если мы не сблизимся, не встретимся,— все взорвется! И взорвется вначале в космосе! Задуманная нами милитаризация космоса пугает меня больше всего. Если туда будет заброшено оружие—хода назад нет. Сейчас мы еще можем медленно двинуться к разрядке, к сближению, к признанию, что Советский Союз и США отличаются друг от друга, но устранить это различие нельзя — надо жить вместе. Битвы надо вести на полях идеологии, а не в космосе...
Копит рассуждал, а на экране корпунктовского телевизора весело прыгали красочные картинки. В космическую бездну отправлялся американский корабль «Дискавери». Здоровяки в скафандрах загадочно улыбались. Звук был выключен, и репортер жестикулировал, как переводчик на язык немых. По-видимому, растолковывал, какая это важная миссия. Еще бы — впервые полет целиком посвящен военным задачам. Вешают что-то в небе над Советским Союзом, что-то очень секретное, до последнего винтика пентагоновское.
Копит смотрел на экран с той же смесью изумления и любопытства, с какой герой «Конца света...» смотрит на абсурдные гравюры Эшера. Потом встал, подошел к окну.
— Если мы разрешим ученым создать новое поколение оружия—лазерные лучи с Луны, ядерные бомбы из космоса,— это будет совершенно новый уровень опасности. К такому мы на Земле еще не подступали,— сказал он, не оборачиваясь.— Что пугает меня в Рейгане? То, что он затеял действительно очень опасную игру. Боюсь, он верит в возможность затянуть вас в гонку вооружений, обогнать, достичь превосходства. Боюсь, он не хочет останавливать эту гонку. А ее надо остановить — иначе она уничтожит всех!
... Небоскребы уже разлиновали нью-йоркское небо пунктирами светящихся окон. Багряные сполохи на Гудзоне погасли, и река стала черным зеркалом, где отразился окутанный светящимся туманом, прослоенный фабричными дымами штат Нью-Джерси.
Над его призрачным раздольем, над едва угадывающимися переплетениями автострад порхали осенними светлячками огни вертолетов
И хотелось повторить за копитовским героем:
— Красивая у вас земля! Займитесь ею...
Как остановился «Американский хронограф»
— К кому?—спросил швейцар.
Я назвал фамилию.
— Он вас ждет?
На улице было мутное нью-йоркское утро. Негритянки выгуливали хозяйских собак. Автомашины стояли у бровки плотно, бампер к бамперу — не втиснуться. Укромный, зажиточный район восточного Манхэттена просыпался поздно, на работу не спешил.
Но меня ждали. Ждала встреча с патриархом американской драматургии, с величием ее прошлого и с ее современностью, сложной и сбивчивой, как кардиограмма больного сердца.
Хозяин открыл сам. Худощавый, в синем свитере, с длинными ловкими руками, он напоминал баскетболиста, еще не остывшего после игры.
Гостиная просторная, гулкая. Мебели мало. Разбросанные там и сям половички и коврики дополняли это ощущение простоты, непритязательности.
Если бы не картины — живые, сочные этюды маслом,— комната могла быть частью декорации к «Смерти коммивояжера». Той самой гостиной, которая скрыта от зрителя портьерой в глубине кухни.
На американский манер хозяин вскидывает ноги на журнальный столик. Тот не шелохнется. Крепко, видно, сбит.
— Ножки сделаны из дерева, которому около ста лет.— Человек в свитере произносит слова медленно, раздумчиво, с характерным бруклинским выговором.— Это дерево с фермы в Коннектикуте. Мы с женой живем там, в Коннектикуте, а сюда, в Нью-Йорк, приезжаем только, когда есть дела. Видите...
Он кивает на потолок, откуда свисает лоскут отставшей белой краски.
— До сих пор занимаюсь тем, чем занимался всю жизнь,— мастерю сам мебель. Вот, например, этот столик...
Многое в квартире, оказывается, сделано его руками. Вилли Ломен, герой «Смерти коммивояжера», тоже мечтал когда-нибудь перебраться из нью-йоркского удушья на природу, самому сколотить там домишко. «У меня так много прекрасных инструментов, все, что мне будет нужно,—это немного теса и спокойствия духа».
С тех пор, как эта фраза впервые прозвучала со сцены ныне несуществующего бродвейского театра «Мороско», минуло 35 лет. «Смерть коммивояжера» переведена на 29 языков и вошла в список для обязательного чтения в американских колледжах. Классическая драма о «крысиных гонках» за успехом принесла ее автору Пулитцеровскую премию и, как заметил один критик, «почетное место в пантеоне великих американских драматургов».
Были еще творческие удачи. Остросоциальные, необычные по своей драматургии пьесы взрывали дремоту американского театра, возвращали его к жизни. Впрочем, автор «Всех моих сыновей» (1947), «Сурового испытания» (1953), «Вида с моста» (1955) вряд ли нуждается в рекомендациях.
Интересно другое. В тот год Артуру Миллеру исполнилось 68 лет. Достиг ли он того «спокойствия духа», о котором грезил его персонаж Вилли Ломен, маленький человечек, раздавленный колесницей бизнеса?
Почему драматург вдруг бросает в одном из последних журнальных интервью неожиданное и горькое: «Мой роман с американской публикой продолжался только один, 1949-й год...»
Большие, сильные ладони плотника накрыли подлокотники кресла. Миллер оглядывается на минувший год, и увиденное вроде бы его вполне устраивает.
Вот уже несколько месяцев он занят новой постановкой «Смерти коммивояжера» с Дастином Хофманом в главной роли. Знаете Хофмана? Того, что снимался в «Крамере против Крамера», «Тутси»? На редкость талантливый актер. Премьера состоится в Чикаго, а уже потом пьеса пойдет в Нью-Йорке. Чтобы подыскать исполнителей 11 ролей, пришлось перебрать 1200 актеров! Уф! Казалось, пробы будут тянуться вечно. Он, Миллер, погружен в постановку с головой. Публика ждет многого и от Хофмана, и от нового явления пьесы на Бродвей.
Кроме того, он пишет новеллу. Пишет новую пьесу. Работает над фрагментами мемуаров. А мебель! Столярное дело тоже требует времени Нет, он весьма занят, весьма..
Может быть, мне кажется, но какая-то неуверенность, неудовлетворенность сквозит во внешне свободной речи драматурга. Конечно, мне это только кажется. Просто я добросовестно сделал свое «домашнее задание» и знаю, что все последние статьи о Миллере, все редкие рецензии, как правило, начинаются со сладострастного перечня его неудач и провалов.
1972 год. На Бродвее ставится Миллеровская пьеса «Сотворение мира и другие дела», своего рода драматургическая вариация на темы Ветхого завета. Во время генеральной репетиции режиссер Гэролд Клермен и примадонна Барбара Харрис уходят из труппы, хлопнув дверью. Пресса подвергает премьеру жестокой критической бомбардировке. После двадцати спектаклей «Сотворение мира» приходится снять со сцены.
1980 год. В Чарльстоне, штат Южная Каролина, зрители благосклонно принимают новую драму Миллера «Американский хронограф». Она — о годах «великой депрессии». Миллера всю жизнь преследует видение того утра, когда толпы людей штурмовали бронзовые ворота бруклинского отделения «Бэнк оф зе Юнайтед Стейтс». Он, тринадцатилетний подросток, не мог понять, что происходит.
А произошло простое: банк лопнул, люди не могли получить свои деньги. Кризис навалился и на семью Миллеров. В то утро для Артура кончилось его детство. Теперь он встает в полпятого утра, чтобы помочь булочнику разнести короба плюшек. Потом работает подмастерьем в авторемонтной мастерской на Манхэттене.
«Американский хронограф» — о тех днях. О его, Миллера, убежденности, что человеку дано сохранить гордость, моральную чистоту под ударами судьбы. О том, что вина за страдания лежит на устройстве общества, на системе. Юные герои «Американского хронографа» зачитываются газетой «Дейли уорлд», их волнуют идеи американской компартии.
Опасность исходит от фашистов и тех, кто им сочувствует, предупреждает Миллер. Через три десятилетия после «Смерти коммивояжера» его авторская позиция не потеряла своей безупречной точности.
Опять социальная пьеса?! В устах американских критиков это прилагательное звучит как ругательство. Миллеру еще не простили его ереси 40-х годов. Он еще не искупил ее тенденциозной по отношению к миру социализма нотой, которую порой тянул в своих публичных выступлениях.
В «Американском хронографе» гражданская совесть автора вновь берет верх над политическим мышлением, сформированным официальной пропагандой. Артур Миллер более сложен, чем представлялось здесь тем, кто хотел использовать имя драматурга для раскочегаривания антисоветских сенсаций.
Еретика, снова взявшегося за свое, надо было привести в чувство.
В мгновение ока «большая» критика сделала из «Американского хронографа» кожаную грушу для битья. Миллеру приписали «морализирование на уровне детского сада» и грехи пострашнее. Премьеру пьесы на Бродвее заранее представили как похороны. После дюжины спектаклей в декабре 1980 года «Американский хронограф» перестал тикать...
— Умирает ли социальный театр в Америке?—спрашиваю Миллера. Хочу проверить на нем точку зрения Джозефа Паппа.
— Пожалуй,— говорит он.— Почему это происходит? Не знаю...
Драматург слишком строг к себе. Наша беседа о сегодняшнем дне американского театра показывает: Миллер неплохо представляет, откуда это тяжелое заболевание — «несварение» Бродвеем серьезной драматургии.
— Симптомы старые,— начинает он.— Я всегда считал, что нью-йоркский профессиональный театр, который называют Бродвеем, становится все более коммерческим. Конечно, он был таким и раньше. Но сегодня из-за инфляции и других наших экономических недугов — сегодня Бродвею неизмеримо труднее родить что-либо новое. Слишком высок риск потерять капитал...
Собеседник обращает мое внимание на стремительное размножение за последние 10—20 лет театральных трупп в провинции. Возможно, настало время признать, что обитель серьезного театра — уже не Нью-Йорк? На протяжении многих десятилетий американские провинциальные театры брали то, что жаловал им со своего плеча Бродвей. Сейчас наоборот. Бродвейские постановщики осмеливаются ставить только обкатанные вещи. Те, что прошли проверку долларом на провинциальной сцене.
Здоровый ли это процесс?
— Он мне не нравится,— качает головой Миллер. Блик настольной лампы мечется в стеклах его роговых очков.— Главным образом потому не нравится, что вкус Бродвея можно все более определить словечком «поп» — популярный в смысле вульгарно-массовый. Он, этот вкус, вытягивает соки из всего серьезного. Постановка пьесы, где герои не только открывают рот, но и мыслят,— почти невозможна.
Я делюсь с Миллером своими впечатлениями от «Американского бизона» Дэвида Мэмита — очередного «гвоздя» бродвейского сезона. Сюжет у пьесы как будто многообещающий. Трио мелких авантюристов задумало сделать капитал на махинации с чужой коллекцией монет, где есть старинный десятицентовик с изображением бизона. Их преследуют неудачи. «Свободное предпринимательство» одиночек так же вымирает в заповеднике монополий, как американский бизон.
Идея интересная. Но воплощена, на мой взгляд, плоско, фотографично. Да и не замысел взбудоражил критику. Там играет Аль Пачино, тот, что сделал себе имя в «Крестном отце», а позднее снялся в фильме «Лицо со шрамом», этаком гимне насилию в умелой оркестровке режиссера Брайана де Палма.
Из-за сцены расчленения человека посредством бензопилы цензоры долго решали, какую категорию дать фильму. Кровавый, скандальный отблеск, естественно, упал и на добротную работу Аль Пачино в «Американском бизоне». Похоже, нью-йоркских снобов привело в восторг и другое. Как бабушкин сундук нафталином, пьеса густо пересыпана матерщиной.
У автора, правда, есть объяснение. «Вас шокирует мой язык? А меня шокируют пытки в Чили! Шокирует, как наши высшие чины совершают подлые преступления, а мы, вместо того чтобы наказать их, приговариваем: «Бедные, бедные, как они настрадались...»
Засаливание языка американской драмы идет с конца 60-х годов, объясняет Миллер. И это уже перестает восприниматься как новинка.
— Вот если на сцене кого-то взаправду угробят,— горько улыбается мой собеседник,—тогда, может быть, поднимется шум.
— А как вы сами относитесь к лексике, словно списанной со стен нью-йоркских общественных туалетов?
— Если язык непечатный, значит, сама пьеса слабовата. Автор пытается возбудить ускользающий интерес зрителя. Подмена содержания скандальной формой. Частый прием...
Но Миллер считает, что в «Американском бизоне» есть драматизм, образы. Камерная, репортажная пьеса, но не без достоинств. Дэвид Мэмит, по его мнению,— талантливый драматург В Америке есть немало молодых талантливых драматургов, и почти все они в один голос жалуются: в театре для них как бы нет места. А ведь это серьезные люди. Если хотите, патриоты высококачественной драмы.
— Они где-то на окраине и заглядывают оттуда, как через забор,— Миллер вскидывает подбородок, словно этот забор сейчас перед ним.— А за оградой — банальность, мюзиклы.
Миллер не помнит по-настоящему социальной американской пьесы с пятидесятых годов. Вместо попыток дать реалистический портрет общества — мистические, фантасмагорические видения. Персонажи нынешних пьес, как правило, не имеют прошлого Откуда герой явился, что у него на уме — это никого не волнует, ничего не значит. Характеры призрачны, словно просвечивают один сквозь другой. Психологизм произведений Чехова, Толстого, Ибсена, предполагавший, что прошлое создает в человеке настоящее, больше не в ходу. Мы не знаем ничего о герое, пока он не начинает действовать. Главное сегодня — действие.
В то же время Миллер замечает одну, как он говорит, «странную вещь». Социальная жилка, что умирает в театре, возрождается, кажется, в кинематографе. Худо ли, бедно ли, но Голливуд стал чаще обращаться сегодня к земным тревогам. Робко, словно обжигаясь, но все-таки касаться горячей политики.
Режиссер Майк Николс снял фильм «Силквуд» — о реальной трагедии, случившейся с работницей завода по регенерации плутония в Оклахоме. По вине его хозяев Карен Силквуд получила опасную дозу радиации. 13 ноября 1974 года она погибла в таинственной автокатастрофе, когда ехала на встречу с корреспондентом «Нью-Йорк таймс». Убийство?
Хотя фильму присуща недосказанность, он стал резким обличением хищничества, пренебрежения к человеческой жизни во имя прибыли. Другая лента «Под огнем» режиссера Роджера Споттисвуда с симпатией рассказывает о сандинистской революции в Никарагуа...
Чем объяснить, что объективы Голливуда фокусируются на таких темах?
Я ссылаюсь на страх, вызванный в обществе угрозой ядерной войны, вползанием американской администрации во «второй Вьетнам» в Центральной Америке. Голливуд чует, по-моему, настроения, на которых можно нажиться.
Миллер не спорит со мной, но склоняется к тому, чтобы искать ответ и в самой природе кинематографа. Традиционная социальная пьеса — Золя, Ибсен — должна была представить доказательства зла, заключенного в самой общественной системе. Экран же обладает более убедительными возможностями для документального изображения этого зла, чем сцена.
— И все-таки отсюда совершенно не следует, что наш зритель не принял бы сегодня социальную пьесу, появись она на Бродвее!—восклицает драматург.— Верю, что публика поймет ее и примет с симпатией...
Примет-то примет, только кто же снесет коммерческие заборы Бродвея?
Вопрос прозвучит сейчас не очень тактично, но я все-таки должен его задать. Как случилось, что патриарх американской драматургии, которого всегда возмущало засилье на сцене бездумных, похожих, как двойняшки, мюзиклов, вдруг занялся сборкой собственного мюзикла?
Он называется «Вверх из рая» и перелицован из той самой пьесы «Сотворение мира и другие дела», что разминулась с успехом в 1972 году. Спектакль ставят «офф-офф Бродвей», то есть на самой театральной окраине. В зальчике на втором этаже клуба на 14-й стрит всего сто мест. Музыку пишет малоизвестный композитор Стэнли Сильвер, а Миллер сочиняет тексты песен — впервые в своей жизни.
— Для меня это эксперимент,— вяло, довольно неохотно бросает драматург.— Вообще-то это не мюзикл. Мы называем его мюзиклом, но на самом деле это нечто вроде оперы. Это более серьезно.
И признается:
— Никогда этим раньше не занимался, не буду делать этого и впредь...
«Не верю, что мы обречены»
Журнал «Роллинг стоун» — настольный молитвенник юных американцев. Каталог новинок их контркультуры. Чуткий барометр молодежных настроений.
Один из его номеров был отдан тогда программной статье под названием «Век хлама». Сегодняшние культурные ценности — это хлам, мусор! — восклицали безымянные авторы. Американское телевидение, книги-бестселлеры, граммофонные диски, что в списках «самых-самых»,— все это дрянь или близко к дряни. Искренность, целостность личности, гражданственность и прочие нравственные нормы остались в прошлом. В век мусора торжествует сиюминутное наслаждение.
«Что бы это ни было — все о'кей! — с сарказмом проповедовал «Роллинг стоун».— Значит, хватай все! Купи сразу дюжину! Схвати самый смак! Кончай со спорами! С тревогами насчет того, что дурно, дешево или фальшиво! Не отставай от других!»
Многие социологи связывают подобные настроения юных американцев со страхом перед ядерной катастрофой. Когда само существование временно, нельзя тратить и мига на отсеивание подлинных ценностей от мусора. Не думает ли Миллер, что философия призрачности бытия влияет и на пути развития американской культуры?
— Согласен,— кивает мой собеседник.— Безусловно, американцев, особенно молодежь, преследует страх... скорее даже не страх, а ощущение: будущего может не быть. У меня дочка Ребекка, ей двадцать один, учится в Йельском университете. Конечно, они все больше живут вот этим часом, этой минутой. Но тут еще не вся правда...
Драматург рассказывает, как студенты попросили его выступить перед ними. Повесили маленькое объявление, листок, написанный от руки. Ожидали человек пятьдесят. Пришло около тысячи. Когда он увидел эту грандиозную толпу, ему подумалось: «Нет, они не довольствуются мусором».
Но откуда все-таки эта тяга к духовной макулатуре?
— Действует гигантский механизм рекламы,— рассуждает Миллер.— Фантастически мощный механизм. Он-то и отравляет молодой мозг, скажем так, до определенного уровня. Но не так уж глубоко. Внизу, под этим отравленным слоем, есть еще один слой сознания. «Эра хлама», конечно, отражает пессимистическое отношение к будущему, к собственной судьбе. Но это не означает, что молодежь не противится нашествию дряни, ее моральным последствиям.
Драматург переводит взгляд на живописное полотно, украшающее стену гостиной. Два этюда объединены одной рамой. Это работа Ребекки, она художница и одновременно изучает философию. Некоторые курсы им разрешают посещать по желанию. Так вот, ходят на лекции по самым серьезным предметам. Поэзия Данте, литература средневековья... То есть у них серьезный интерес к серьезным вещам. «Эра хлама»? Нет, не все так однозначно.
— Но вы правы,— повторяет Миллер.— Наша молодежь под сильнейшим влиянием идеи об эфемерности существования. Никаких сомнений. И это связано, конечно, с развитием ядерной технологии, ядерного оружия.
— А вы сами? Тоже пессимистически смотрите в будущее?
— Нет, почему-то не верю, что мы обречены на ядерную катастрофу,— Миллер встает, подходит к картине — Палитру жизни нельзя свести к зареву последней вспышки,— продолжает он.— У меня нет никаких доказательств противного, но не думаю, что США и СССР неизбежно обменяются ядерными ударами. Что меня действительно беспокоит, так это расползание ядерного оружия. Доступ к нему получают малые страны. Есть лидеры, не обремененные чувством ответственности... Вот почему так важно, чтобы Соединенные Штаты и Советский Союз поддерживали между собой результативные контакты. Продолжали добиваться договоренности.
— Кое-кто считает, что советско-американские отношения сейчас находятся на самом низком уровне за последние десятилетия,— говорю я.— Наносит ли это вред культуре?
— О, несомненно! Если политические отношения плохи, двусторонний поток культурных ценностей начинает быстро иссякать. Никаких сомнений: это взаимосвязано.
Мы говорим с Миллером о том, что если правда считалась первой жертвой обычной войны, то культура, вероятно, будет одной из первых жертв — ядерной. Драматург уже много лет поддерживает антивоенное движение американских деятелей искусства и литературы. Это нужно делать, считает он. Надо сдержать ядерную опасность. Только он, Миллер, хотел бы, чтобы какое-нибудь движение подобного рода, ну, хотя бы что-то приблизительное, ну, какие-нибудь слабые ростки его пробились и в Советском Союзе. Нельзя же делать все только с одной, американской стороны. Надо с двух.
Я ждал этого тезиса. Гигантский механизм здешней пропаганды, чье влияние сам Миллер анализировал минутой раньше, отравляет не только иные головы. Часто пропаганда пользуется просто фигурой умолчания. Даже до тех американцев, кто всерьез интересуется политикой, не доходят вести о демонстрациях советских людей в защиту мира, в поддержку мирных инициатив нашего правительства. Американская интеллигенция не помнит, да и не знает, что во вторую мировую мы уже выстрадали многое из того, что ей показали в нашумевшем фильме Эй-би-си «На следующий день»,— о последствиях ядерного удара.
Неубранные трупы на дорогах. Переполненные госпитали. Голодные дети. Канзас-Сити после ядерной атаки? А Ленинград в дни блокады...
Отравление «верхнего слоя сознания» — если воспользоваться метафорой самого Миллера — выходит далеко за пределы проблем мира и войны. В результате не так уж редко встречается здесь тип творческой личности, чьи художнические позиции неизмеримо более точны, чем общественно-политические. Возможно, по этой причине у Миллера-драматурга значительно более зоркий взгляд, чем у Миллера-публициста и бывшего президента Пен-клуба, которого порой затягивало в водоворот официальной антисоветской пропаганды.
Однако под слоем навеянных дезинформацией противоречий — тревога художника, творца, тревога за судьбу цивилизации, мечта остановить милитаристское безумие.
— Пока не удалось посмотреть фильм «На следующий день»,— говорит Миллер.— Обнадеживает, что его все-таки показали. Американцы поняли, что ядерная война — не обычная война. Правда, меня удивил весь этот наш ажиотаж. Какой, они полагали, такая война может быть? Значит, не очень-то много об этом думали...
В 1956 году Артура Миллера вызвали давать показания в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Несмотря на нажим маккартистов, драматург не назвал ни одной фамилии своих знакомых из числа «красных». Жизненный опыт переплавился потом в драму «Суровое испытание» — о Сайлемском процессе над ведьмами 1692 года.
В конце 80-х эта пьеса Миллера переживает еще один взрыв популярности. Многие видят в ней аллегорию новой облавы на инакомыслящих в США.
«Непатриотично! Пагубно для национальных интересов!» Эти истерические обвинения брошены сторонникам сокращения ядерных вооружений, дельцам, рискнувшим торговать с социалистическими странами, даже церковникам, объявившим ядерную бомбу аморальной.
Бюджет ФБР и полиции раздут на 200 миллионов долларов. В большой моде детектор лжи, которым разрешено пытать каждого, кто внушает подозрения.
Прав ли сенатор Эдвард Кеннеди, когда он предупреждает о возрождении тактики маккартизма?
— Если возникает какая-то чрезвычайная международная ситуация, всегда возможен исторический рецидив,— говорит Миллер.— У нас есть группа людей, движение, может быть, пока не организованное. Они ненавидят все, что, по их мнению, недостаточно консервативно, недостаточно «патриотично». Эти люди существовали в сороковых—начале пятидесятых. Они существуют и сейчас.
Драматург рассказывает, как в библиотеках, в школах свирепствует цензура. Кое-где в глубинке снова горят костры из книг. «Суровое испытание» было запрещено одной библиотекой всего несколько месяцев назад. То же самое случилось со «Смертью коммивояжера». Там якобы есть богохульство. Один персонаж говорит «Черт возьми!..».
Для писателя все это чрезвычайно серьезно, объясняет Миллер. Тиражи издательств часто ориентируются на запросы школ. Если книга где-то запрещена мракобесами, то у издателя, естественно, появляются сомнения. А это случается все чаще. То Курта Воннегута обвинят в том, будто у него слишком много насилия, хотя речь в книге идет о второй мировой войне. То какого-нибудь другого автора предадут анафеме за упоминание слова «аборт». Предлоги разные. Политика за ними — одна.
Драматург мрачнеет:
— Все это может стать гигантской проблемой, если иной политический лидер решит раздуть национальную истерию...
Я пересказываю Миллеру содержание любопытного документального фильма о «голливудских красных». Здешнее ТВ показало его по каналу 13. Там берут интервью у Рейгана — ведь как раз в то «время негодяев» он стал председателем голливудской гильдии киноактеров. Президент одобрительно кивает головой: «Изгнание коммунистов было в высшей степени патриотичным делом. В высшей степени! Повторись это сегодня, я бы снова встал на сторону патриотов...»
Теперь американская администрация, похоже, задумала выжить коммунизм вообще с бела света. Что думает мой собеседник на этот счет?
— Всю жизнь я выступал против такой политики,— говорит Миллер, взвешивая каждое слово.— Мне кажется, в ней, в этой политике, масса дезинформации. Он просто не знает мира, его проблем. Такая у меня точка зрения. О великом, проницательном руководстве говорить не приходится.
Миллер горько иронизирует по поводу шовинизма, взыгравшего после «победы» над Гренадой.
— У нас так всегда. Как только начинаются военные действия, к ним относятся, будто это игра в регби, и наша команда должна взять верх. В сущности это не смешно. Маленькие войны становятся все больше. Когда Гаврило Принцип застрелил в Сараеве эрцгерцога Фердинанда, мало кому из лидеров пришло в голову, что в результате начнет разрушаться Европа. Но шахматные фигуры пришли в движение.
Время беседы с Артуром Миллером истекает. Драматург подписывает мне несколько своих книг. Но не могу уйти, не задав одного, давно интересующего меня вопроса.
Еще осенью 1982 года лос-анджелесский частный детектив Мило Сперильо поведал мне факты, на основании которых он сделал вывод, белокурая богиня Голливуда Мэрилин Монро не покончила с собой, а была убита «правой фракцией» из Центрального разведывательного управления США. Сенсация продолжает обрастать подробностями. В частности, версия самоубийства подвергается сомнению и в новой книге Томаса Ногучи, судебно-медицинского эксперта, проводившего вскрытие трупа.
Что думает на этот счет человек, который сказал в одном интервью: «Я был рядом с Мэрилин дольше, чем кто-либо в ее жизни. Мы были с ней вместе пять лет. Она была частью моей жизни»?
— Не нахожу смысла в таких подозрениях,— говорит Миллер.— Правда, я не видел ее к тому времени уже несколько лет. Я был здесь, а она там, в Лос-Анджелесе. Таким образом, у меня, собственно, нет никаких фактов...
— Зачем они должны были ее убить?—внезапно перебивает он себя.— Зачем? Не могу представить...
— Как считают, из-за секретов, которые она знала.
— Сомневаюсь в этом. Не верю. Все это выглядит, как еще одна рекламная уловка...
Мы прощаемся. Миллер вздыхает: не хватает времени— много забот. Недавно на его ферме в Коннектикуте случился пожар — много чего сгорело. Жалко, что расплавились 2 тысячи джазовых пластинок. Хорошо еще, рукописи уцелели.
... Вечером того же дня меня занесло на Бродвей. У площади Таймс-сквер в глаза бросилась обновка — на гигантском рекламном полотнище буквами, имитирующими мазки губной помады, было выведено «Мэрилин».
И эту человеческую драму наконец загнали в мыльный пузырь мюзикла.

7 Яблочный пирог без яблок
Америка — люби ее или покинь ее!
Наклейка на бампере автомашины
Флаг под пиво
Я спускаюсь в окоп. А может быть, в могилу?
Нет, просто иду в сумрачной, притихшей толпе вдоль памятника вьетнамским ветеранам в Вашингтоне. Гранитная стена врыта огромным угольником в землю. Чем ближе подходишь к углу, тем круче ныряет тропа в глубь холма, тем выше здесь черная стена, испещренная именами тех, кто не вернулся живым из Вьетнама.
Граверам пришлось постучать молотками — имен 57 939. Выбиты в хронологическом порядке, так, как Пентагон рассылал похоронки.
Рядом сдавленный всхлип:
— Там! Там, в верхнем ряду!
Пожилая сухонькая американка с очками-половинками на красном шнурке заходится в беззвучных рыданиях. Кто-то, видно родственники, прилаживают к стене стремянку. Красный шнурок ползет по гранитной стене вверх — будто раскрывается незаживающая рана.
Добравшись почти до края стены, женщина боязливо, словно обжигаясь, касается пальцами дорогого ей имени. Потом накрывает ложбинки букв листком бумаги и начинает заштриховывать карандашом. Снимает копию с официального траура.
Только траур ли это? В такт штрихам до меня доносится сверху какая-то повторяющаяся фраза, какой-то шелестящий неразборчивый речитатив.
Подхожу ближе. Шепот сгущается в слова:
— Кость срастется, крепче будет. Кость срастется, крепче будет...
Я знаю, откуда этот припев. Открывая вьетнамский монумент в ноябре 1984 года, президент назвал его символом «исцеления» Америки. От чего? Надо думать, от вьетнамских кошмаров. От непреходящего чувства сотворенного страной зла. От призраков миллионов душ, расстрелянных с вертолетов, спаленных напалмом.
Поставили на попа несколько глыб гранита — и исцелились.
Тогда же оратор поделился мыслью о том, что сломанная, но хорошо сросшаяся кость становится крепче прежней, здоровой. Намек прозрачный. Исцеленный кулак может снова пригодиться, чтобы попытаться нанести удар кому-то где-то за тридевять земель от американских рубежей.
И наносят. К примеру, по Ливии. А еще чаще — на экране да театральных подмостках. Политическая реабилитация вьетнамской войны поспешила облечь себя, так сказать, в художественные образы. Америку захлестывает волна фильмов и пьес, где громила-ветеран вновь топчет башмаком вьетнамские джунгли, вновь палит там во все стороны из крупнокалиберного пулемета и на этот раз наконец-то побеждает.
Слава тебе господи и Голливуд!
Ах, как вдохновенно это происходит в фильме «Рэмбо. Первая кровь, часть вторая»! Я сидел в кинозале и не верил своим глазам. В общем-то на экране мелькали те самые телевизионные картинки 60-х годов, что давно перестали щекотать нервы здешнему обывателю Пылающие крестьянские хижины. Старцы, которых разносит взрывом на куски. Пленники в адских муках — их морят голодом в клетях, топят в навозной жиже... Кто творит все это зло? Лейтенант Колли и его единоверцы? Нет, «коммунистические деспоты» — воины демократического Вьетнама и как-то затесавшиеся сюда «русские майоры».
История перевернута вверх дном. Вину Америки подменили героическим самооправданием Аморальную интервенцию — благородной сказкой про спасение каких-то американских военнопленных, будто бы все еще остающихся во Вьетнаме. Целлулоид все стерпит.
А посреди этой грохочущей в системе «стерео», размазанной на цветном «кодаке» лжи мечется гора мускулов и горошина интеллекта, именуемая Джоном Рэмбо.
Спросите сегодня у американского юнца, кто его кумир? Джордж Вашингтон? Линкольн? Мартин Лютер Кинг? Ответ скорее всего будет. Рэмбо!
За первые три месяца после выхода на экран фильм обобрал зрителей на 150 миллионов долларов — редкий рекорд. Картина помечена грифом «R», то есть детей до 17 лет на нее пускают только в сопровождении взрослых. Тем не менее магазины игрушекзабиты пластмассовыми изваяниями полуголого идола и его винтовок, минометов, арбалетов.
Тогда в нью-йоркском кинотеатре «Мувиленд» я не столько смотрел на экран, сколько по сторонам Вокруг творилось невообразимое. Каждый раз, когда Рэмбо отправлял к праотцам очередного «красного супостата», зрители вскакивали на ноги и, растаптывая стаканчики из-под кока-колы, осыпая соседей дождем кукурузных хлопьев, выбрасывали вверх ладони с двумя пальцами, разведенными на манер буквы «V» — «виктори», победа.
— C-Ш-A! С-Ш-А! С-Ш-А! — упоенно ревел зал.
И становилось не по себе. На каких-то затертых, поцарапанных кинороликах мы уже видели это сумасшествие и руки, вскинутые вверх...
А Сильвестр Сталлоне, один из авторов сценария «Рэмбо» и исполнитель главной роли, чьи смазанные вазелином бицепсы сверкают там в каждом кадре,— тот ликует. Как же, попал в яблочко общественных настроений!
— Люди ждали,— рублеными фразами, как бы еще «в образе», растолковывает он прессе.— Ждали шанса выразить свой патриотизм. Дождались. Мой Рэмбо спустил курок эмоций. Которые были не в моде. Которые долго подавлялись Возврат к исконным американским ценностям. Патриотизм! Вот о чем я говорю. Яблочный пирог снова стал главным блюдом в меню...
О патриотизме сейчас заговорил не только культурист Сталлоне. О нем рассуждают социологи, кричат у микрофо-
нов рок-идолы, самодовольно воркуют в своем кругу вербовщики Пентагона.
О «новом патриотизме». Том, что начал сгущаться в воздухе и обволакивать страну в самом начале 80-х, а позднее превратился, как мне кажется, в крупнейший, всеопределяю-щий феномен национальной общественной жизни.
Говорят же о нем чаще всего кулинарными категориями, как будто колдуют над бытовым символом Америки — яблочным пирогом.
Понимаете ли, в 50-х годах патриотизм передержали в печи. Шеф-повар Джо Маккарти перестарался, и это привело к появлению этакой черной, обугленной корки — брр! — лучше не вспоминать. В 60—70-х вьетнамская война, «Уотергейт», серия политических убийств повергли американцев в уныние, посеяли сомнения в добропорядочности государственных институтов. Американец тогда стыдился Америки. Патриотизм был, того, сыроват.
А сегодня яблочный пирог — в самый раз. И с каждым днем становится все пышнее, аппетитнее, румянее...
Гримасы этой румяной рэмбомании потрясают.
Один нью-йоркский модный салон устроил конкурс двойников Рэмбо. В холода собачьи участники позировали полу-голенькими. Нижняя челюсть вперед, бицепсы напружинены до ломоты в костях Так надо. Так больше похоже на него.
Победителям присваивали почетный титул «Дублеры убийцы».
Салон исходил, видимо, из того, что мужская мода изменчива. Когда-то носили широкие брюки и широкие галстуки. Потом узкие брюки и узкие галстуки. А сейчас моден широкий оскал зубов и узкий взгляд на остальное человечество, как на фанерную мишень, куда надо поскорее всадить пулеметную очередь.
Город Хьюстон. Здесь открылся ночной бар «Рэмбоуз» — видимо, по созвучию с именем хозяина Лэрри Дюбоуза. Официантки — в пятнистых камуфляжных мини-юбках с автоматами наперевес. Посетители сидят на пуленепробиваемых мешках с песком. С потолка свисают минометы, зенитные орудия.
— Как бизнес?—звоню я в хьюстонскую обитель последышей Рэмбо.
— Лучше некуда. Выдумка дает выручку...
А выдумка, по словам «Нью-Йорк пост», сводится, в частности, вот к чему: «Посетителей периодически призывают делать непристойные жесты по адресу Советов...»
Городок Йорктаун-Хайтс, что под Нью-Йорком. Восемнадцатилетний Майкл Дауни смастерил себе здесь стальной арбалет—точно такой же, как у Рэмбо. Потом оделся, точнее, разделся под своего кумира и засел у себя дома в ванной, поджидая подходящую жертву.
«Не подходи, коммунистка, убью!» — предупредил сынок мать, всю свою жизнь голосовавшую за республиканцев. Та вызвала полицию. Дауни вышиб в ванной окно и помчался по улице пружинистой, звериной припрыжкой — так движется в фильме Рэмбо,— стреляя из арбалета в прохожих. Позднее полиция с трудом выкурила парня слезоточивым газом из городской канализации.
Бедный Майкл, как сказали бы американцы, немножко «ку-ку». Этим печальным, но мелким обстоятельством можно было бы пренебречь, если бы случай в Йорктауне резко контрастировал с общественными настроениями. К сожалению, нет, не контрастирует. По мере того как в 2200 кинотеатрах США продолжали реветь толпы зрителей, подражание Рэмбо и прочим голливудским «патриотам кулака» вскоре перестало быть только модой.
Приметы явления не исчерпываются рэмбоманией. Опрос телесети Пи-би-эс показал: 70 процентов американцев «испытывают хорошие чувства к собственной стране» в отличие от 1975 года, когда такие настроения были лишь у 40 процентов
Америка разоделась в звездно-полосатое — кажется, никогда еще страна не обзаводилась таким количеством флагов. Флаги над подъездами магазинов. На крышах яичножелтых нью-йоркских такси. Над тележкой продавца сосисок... На патриотичную ткань такой спрос, что знаменитый телевизионный комик сострил: «По крайней мере одна отрасль американской индустрии переживает бум».
Брюс Спрингстин — рок-певец, почти народный бард. На популярность никогда не жаловался. Пресса, в том числе советская, не прошла мимо его ярких городских баллад, звучащих панихидой по американской мечте. Но вот что-то странное закрутилось сегодня вокруг Спрингстина. Тоже бум! Поклонение, которого не знали, пожалуй, ни Элвис Пресли, ни Майкл Джексон, ни Принс. И все из-за одной-единственной песни — «Рожден в США».
Это скорбная история двух братьев, которые загремели на войну во Вьетнам. Одного там убили, а второй ничего, уцелел, но оказалось, что Америке нечем встретить его, кроме как безработицей. Он — в администрацию ветеранов, есть такая государственная служба, а там его и знать не хотят. «Некуда бежать, некуда податься!» — надрывно поет Спрингстин.
Казалось бы, какой тут повод слушателю ликовать? Но воистину всеамериканская аудитория словно бы и не слышит слов, не следит за песенным сюжетом, а только ждет чего-то заветного. Какой-то электрической искры, чтобы взорваться. И вот она проскакивает. Брюс Спрингстин рвет на себя штангу с микрофоном в страстном, на пределе голосовых связок рефрене:
— Рожден в США! Рожден в США!
И юная Америка, та, что после таких песен когда-то жгла военные повестки и заодно звездно-полосатые полотнища, сегодня теряет самообладание от восторга и машет, машет заранее припасенными, хорошо отглаженными флажками. А потом растекается по кельям студенческих городков, где еще десятилетие назад стены пестрели мирными призывами. Теперь другие времена, другой язык стен. Например. «Размозжить ядерной бомбой Триполи!», «Убить Каддафи!».
— Что тут скажешь, патриотизм!—умиленно галдят казенные комментаторы.— Мы, американцы, без патриотизма, как часы без стрелок,— безгласны, недвижны. А сейчас затикали, закрутились!
Сам президент разводит руками — вроде бы в счастливом недоумении:
— Не знаю, каким образом новый патриотизм возник так стремительно, как, с чего и где он начался...
Лукавите, г-н Рейган. Не такой уж он новый, этот феномен, именуемый патриотизмом. И не такая уж загадка.
Немало американцев припоминают, когда именно начали складываться первые представления обывателя об Америке, якобы смывшей с себя позор вьетнамской войны и бесчестия в коридорах власти. Не с оккупации ли Гренады? Это в те дни страна получила новых героев, которым суждено было стать прототипами Рэмбо. Это тогда, два года назад, Пентагон раздал на радостях больше медалей за интервенцию, чем на Гренаду высадилось американских десантников. Этакий милый, глубоко патриотичный конфуз.
Кстати, сам президент встретил «победителей» такими словами:
— То, что произошло у вас на глазах десять дней назад, называется патриотизмом.
Вот она, установочная нота правительственного камертона. Сбросить с неба армию на беззащитный островок, посадить там в деревянную клеть демократически избранного заместителя премьера — это патриотично.
Робко полагать, что тыканье пулеметным дулом в душу суверенной страны слегка не укладывается в международные нормы,— это непатриотично.
Обрушить бомбы с лазерным наведением на Ливию, накрыть там огневым шквалом госпитали, школы, дома для престарелых — это мускулистый, пахнущий трудовым потом патриотизм.
В сущности, Америка стала жертвой идеологической подтасовки, которой руководит сама администрация.
Потом подоспели Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Олимпиада «made in USA»! Собственность частного бизнеса, ее устроителя! Исключительно американская и почти исключительно для американцев! В таком крике зашлись здешние газеты.
«Новым патриотизмом» тогда торговал, кто хотел. Пиво «бадвайзер» рекламировало себя на фоне эстафеты, которая несла олимпийский и американский флаги по долам и весям. В кадре у седого ковбоя ползла по задубевшей от ветра щеке слеза. Что он восторженно оплакивал, чему хлопал в ладоши? Выходило — пиву.
Нет, приступ «нового патриотизма» не осчастливил Америку до слез. Скорее насторожил, встревожил. Многие здесь спрашивают себя: куда нас ведут, неистово размахивая флагом? Не кружим ли мы в поисках новой драки, новой и более крупной Гренады?
И слишком многие узнают в сверкающем свежей чеканкой «патриотизме» кое-что ржавое, зловещее.
Тридцать лет назад Джон Генри Фолк был блистательным комментатором радиосети Си-би-эс. Маккартисты записали его в черный список, закрыли доступ к микрофону. Сейчас Фолк оглядывается окрест и размышляет:
— Патриотизм? Не стал бы определять происходящее таким образом. Нет, не стал бы! Думаю, здесь другое. Это явление замесил сверху президент Рейган, и республиканские ультра продолжают его подогревать. Здесь есть что-то общее с матчем по регби. Нечто вроде бездумного азарта, Смотрится вроде бы хорошо, но не имеет ничего общего с настоящим патриотизмом. Настоящий патриотизм для меня — обращение к тем идеалам и принципам, на которых стоит наша американская республика. Это Декларация независимости. Это Конституция, десять поправок к ней... А чем живет сегодня страна? Флаги, безумие... Это синтетический, искусственный патриотизм. Он наносит ущерб подлинным чувствам американца к его родине.
Говоря о родине, Джон Генри Фолк не имел, конечно, в виду Пентагон. Какой там ущерб! Вербовка новобранцев никогда еще не шла с таким энтузиазмом, как сегодня.
Будто не под ружье торопятся, а на пляж.
Эра подавленного инакомыслия
Я в стеклянном кубе армейского вербовочного центра на нью-йоркской Таймс-сквер. Когда входил, заметил у дверей афишу: оголенный торс с пулеметом наперевес. Ба, Рэмбо! Поверху надпись «Американский герой ждет тебя!».
Вот уже как. Голливудский головорез, стало быть, заменил дядю Сэма на историческом мобилизационном плакате, где дядюшка тычет в зрителя указательным пальцем: «Америка ждет тебя!». Теперь Америка — это Рэмбо. Каковы времена—таковы и герои.
Внутри пентагоновского заведения, как на воскресной толкучке,— шумно, людно. Висит облако дешевых духов. В последние годы в порядке показной борьбы за женское равноправие правительство заманивает в армию женщин. Подсаживаюсь к копне блондинистых кудряшек над милым личиком, именуемой новобранцем Сюзан Грин, 20 лет. Родись Сюзан двадцатью годами раньше, она, скорее всего, бушевала бы на антивоенных демонстрациях в расхристанном, увитом цветами хитоне хиппи.
Сегодня это подтянутое, весьма атлетическое создание мечтает стать десантником. Почему?
Сюзан честно смотрит мне в глаза и с искренней горячностью толкует что-то насчет того, что, мол, в 70-х молодежь «выражала себя вот так — протестом, а мы вот так — патриотизмом». Тогда цветочные венки, сейчас — каски.
— А как относишься к вьетнамской войне?
— С нашей стороны, мне кажется, глупо было... Такая глупость.
— Ну, а если бы Америка не проиграла войну, как бы ты считала? Так же?
Кудряшки замирают. Глаза распахиваются, словно диафрагма фотоаппарата в сумерках.
— Как!—смятенно восклицает Сюзан.—А разве мы не победили? Из того, что я знаю... Думала, мы победили в этой войне, разве нет?
— Нет. Только сейчас узнала?
— Сейчас. Да, вот только... — она оглядывается на склоненные фигуры офицеров, споро заполняющих документацию на новобранцев.
Тимоти Джонсон — совсем мальчишка. Ему бы не с винтовкой упражняться, а прыгать по лужайке с бейсбольной лаптой. Парень честно признается: сейчас, когда сотни тысяч сверстников маются без работы, одно спасение — армия. Видели телевизионную рекламу? Там, в армии, и программировать компьютер научат, а на компьютерщиков сегодня — ого-го-го какой спрос!
— Скажи, кто такой был лейтенант Колли?
Тимоти кусает ногти, морщит лоб.
— Что-то знакомое. Знакомое, вроде, но нет, не знаю...
— А слово «Май-Лай» тебе что-нибудь говорит?
— Нет... Пустой звук.
Для поколения юнцов, что торопится сейчас нахлобучить каску и изображать наяву Джона Рэмбо, не существует истории. «Новый патриотизм» — это старый джингоизм, расцветающий среди невежества и избирательного зажима информации. Нетронутое жизненным опытом сознание впитывает его жадно, играючи, с детским преклонением перед налитыми мускулами и большим кулаком.
— Скажи, Тимоти, а когда ты все-таки надумал в армию?
— Я вообще люблю стрелять, охотиться... А решил? Два года назад решил. Когда наши, помните, высадились на Г ренаде.
— Ну и что, что высадились?
— Дало мне толчок. Видел, как они там все ловко делают и тоже захотелось... Бах-бабах!—паренек шутливо наставляет на меня указательный палец.— И медаль на грудь...
Тимоти Джонсон, американский доброволец образца 1985 года, не помнит, как его сверстники когда-то швыряли эти медали за ограду Белого дома. Сегодня он совсем иной, этот «новый патриотизм». Не о его ли разновидности так жестоко, беспощадно сказал когда-то другой Джонсон — Самюэль, английский писатель и издатель XVIII века: «Патриотизм — последнее убежище негодяя»?
Немало американцев — кто с ощущением уже виденного, кто с чувством, близким к панике,— всерьез задают себе сегодня этот вопрос. Не задать трудно. Пугающий феномен «нового патриотизма» копирует то, что было его предтечей, в мельчайших деталях Скажем, опять, как и в 50-х, на бамперах автомашин появились категоричные, будто приговор военного трибунала, наклейки:
«Америка—люби ее или покинь ее!».
— Красивая фраза.— Джон Генри Фолк понуро качает седой головой.— А смысл ее? «Согласись со мной или выбью тебе зубы». То же самое было в эпоху сенатора Джо. Та же эра подавленного инакомыслия. Милитаристы и джингоисты прикидывались патриотами. Теперь кто-то окрестил старый позор «новым патриотизмом». А на деле? Что на деле? На мой взгляд, это требование: согласись с администрацией, с ее политикой внутри и вне страны, не то мы будем считать тебя неполноценным патриотом. Явственное эхо маккартизма. Второй акт явления, смертоносного для наших свобод...
А осознает ли это Америка?
Знаменитая военная академия в штате Нью-Джерси. Сейчас в ее залах и на полигонах — 35 тысяч курсантов. Полный набор впервые с 1972 года, когда в США была введена добровольная военная служба.
— Ар ю мотивейтид?! — гаркает сержант.
Новобранцы — в защитных пятнистых комбинезонах, ноги врозь, руки заложены за спину.
— Мотивейтид! Мотивейтид, сэр! Мотивейтид! — ритмично выкрикивает шеренга.
Они «мотивированы», готовы. Стоит разобраться, к чему.
По сюжету уже известного нам фильма с красавцем Рэмбо происходит во Вьетнаме маленькая неприятность — он попадает в руки врагов. Каких именно? Нечего и спрашивать: это, ясное дело, «русские майоры», чьи имена прозвучали для меня как Фортникофф и Счубин.
Далее следует двадцатиминутная сцена, которой, убежден, нет параллелей в истории американского кино. Это грязная бездна, куда Голливуд еще не падал.
Фортникофф и Счубин истязают обожаемого Рэмбо... высоковольтным электрическим током. Приматывают его прекрасное мускулистое тело к поставленной на ребро железной кровати, распинают, как Христа, и своими медвежьими ручищами рубильник — раз! Потом два. Потом три... Бьется в судорогах, но не выдает благородных тайн любимец Америки. Горят садистским наслаждением голубые глаза «красных извергов».
Орет, топочет, остервенело стучит откидными сиденьями зритель. Он буквально зашелся в припадке неистовой, санкционированной сверху злобы ко всему советскому, русскому. Я сижу в центре этого котла ненависти и думаю: нет, не американцы это и не Америка.
Это рев того, что именуют «новым патриотизмом».
А Фортникофф и Счубин не унимаются. Калят на огне нож. Заботливо предупреждают; сейчас начнем выкалывать глаза. Потом этим раскаленным докрасна лезвием по небритой, но все равно благородной щеке героя — жжик! На христианской плоти взбухают сатанинские кресты
Течет жидкая голливудская помада, изображающая кровь американского гражданина. Утекают из сознания обывателя остатки представлений о том, что русские — это нормальные люди, с которыми можно ладить. Идеологи «нового патриотизма» творят, на мой взгляд, самое тяжелое свое преступление — прошибают электротоком, кромсают ножом, рассекают на кусочки нити доверия, которые тянутся через океан, соединяя души американца и советского человека.
Это не всплеск дурного вкуса. Не уродливое насилие доллара над моралью. Это главная составная часть идеологической программы «нового патриотизма», в которую запрягли здесь в последнее время не одну музу.
Кабельное телевидение не случайно месяцами показывало дважды в сутки другой фильм—«Красный рассвет», где американские партизаны, сражающиеся против «советско-кубинских оккупантов», взрывают клуб советско-американской дружбы.
В спектакле «Трассирующие пули», поставленном нью-йоркским театром «Паблик», в сотый раз оправдывают вьетнамскую авантюру.
А тот же самый Сильвестр Сталлоне выпустил боевик «Рокки-IV», где американский боксер оставляет мокрое место от русского чемпиона. По всей стране шел рекламный ролик этого опуса с простеньким, доходчивым текстом: «Готовьтесь к третьей мировой войне!».
Здешние критики нанизывают красивые, успокоительные фразы: «Это просто героика силы... Это в крови у американцев со времен первых колонистов... Это образы благородных дикарей...»
Нет, это кинематограф реванша. Причем иллюзорного.
Сюжеты голливудских боевиков подогнаны к политической обстановке, как золотая коронка — к зубу. Творцы Рэмбо и Рокки погружают миллионы зрителей в антисоветский транс, ради того чтобы пусть на экране, но все-таки свести счеты с другой социально-политической системой.
Вот, скажем, самые иезуитские кадры из фильма «Рокки-IV». Уложив советского боксера на ринге в Москве, Рокки Балбоа вытирает окровавленные перчатки о свои трусы, опять-таки сшитые из американского флага, и призывает советских болельщиков ... к миру. «Во время этого боя,— изрекает он,—я наблюдал большие изменения...» «Москвичи» восторженно аплодируют.
Мораль этой сцены: американский патриот не прочь пойти с Советами на мировую, но только после небольших «изменений» методом мордобоя. Сначала нокаут, потом мир с позиций триумфатора.
Пока же в нокаут посылают доверие между народами.
И опять миллионы американцев встают и скандируют: «С-Ш-А! С-Ш-А! С-Ш-А!..»
Вопреки общепринятым представлениям это не только Америка с «кадиллаками» в гаражах. Простой народ, как здесь говорят, «люди с улицы», легко, чуть ли не с наслаждением заболевают падучей «нового патриотизма» с его проклятием всего коммунистического, советского.
У известного социолога Стэнли Ароновича, автора книги «Фальшивые обещания: формирование сознания американского рабочего класса», такие мысли на этот счет.
«Почему люди так склонны сегодня к тому, чтобы размахивать флагами? Потому что в нашей национальной жизни ничто больше не срабатывает. Люди глубоко запуганы. Чему поклоняться, если мы не можем решить свои бытовые каждодневные проблемы? Мы отчаянно ищем у себя в Америке веру и авторитет и находим их в пустоте «нового патриотизма». Люди тянутся к символам — к флагу, к богу, к президенту, к яблочному пирогу. Но это не тот патриотизм, который нам нужен».
По существу, яблочный пирог, который так охотно скармливают американцам, без яблок. Он с другой начинкой. Великую, святую любовь к родине пытаются свести к поклонению военной силе, к натиранию вазелином ядерных мускулов.
В «новом патриотизме» официальных идеологов больше всего интересует его оборотная сторона — антикоммунистический гипноз. Благодаря ему американцы должны покорнее встретить известие о любой новой военной авантюре США за рубежом.
Рэмбо воюет не на экране. Он готовит посадочную площадку для американских десантников где-нибудь в Центральной Америке.
Администрация уже удачно воспользовалась «новым патриотизмом», когда провела через конгресс билль о так называемой иностранной помощи. В 1986/87 финансовом году за рубеж ушло 12,8 миллиарда долларов, выделенные на «противодействие коммунистическим и прочим левым правительствам».
Кто прикарманил эти денежки? Никарагуанские «контрас», полпотовские банды в Кампучии, антинародные группировки сепаратистов в Анголе... Томас Доуни, конгрессмен-демократ, объяснил смысл происшедшего так: «Билль свидетельствует, что угроза использования силы становится неотъемлемой частью нашей дипломатии». А Вин Уэбер, его коллега-республиканец, нашел слова попроще: «Члены конгресса сегодня не хотят выглядеть слабаками».
Мускулистый «новый патриот» задает тон и под куполом Капитолия.
... Я шел по Нью-Йорку через приветливый, по-летнему переполненный весельем и звуками карусельной шарманки Сентрал-парк. У скамейки трехлетний малыш нашел две щепки, сложил их крест-накрест.
— Молодчина! — обрадовался папа в джинсах.— Вот тебе и вертолет! А ну-ка, полетели бомбить Никарагуа..
Убийство в Сиэтле
Озарение пришло на рождество.
Он смотрел в окно через улицу, туда, где на чужом балконе подмигивала огоньками чужая елка, и вдруг похолодел от пронзительной, такой ясной для него самого мысли.
Конечно же, этому быть на рождество! .Когда Христос рождается, антихристы должны покинуть этот мир.
Он выскочил на улицу и в ближайшей лавке «Вулворт» — там торгуют всякой всячиной от мозольных пластырей до надувных аллигаторов — купил себе пистолет.
Пистолет был как настоящий. Только из пластика. Все вокруг думали, что он купил игрушку. Вся эта развеселая рождественская толпа глупцов не обратила на него внимания, ни малейшего, наивно полагая, будто еще один семьянин нашел, чем нафаршировать чулок Санта-Клауса.
Только он, Дэвид Райс, знал: пластмассовый пугач — это меч истории. Орудие, что отомстит сегодня за порочное вчера. Кара, опоздавшая на полвека. И тем более зрелая, тем более исчерпывающая.
Конечно, настоящий пистолет был бы солиднее. Но хороший инструмент смерти недешев. А он, сталелитейщик Дэвид Райс, уже год как не стоит у домны, не разглядывает сквозь темное стекло сияющую лаву металла и, следовательно, не получает денег.
Он, Дэвид Райс, безработный. Когда в бумажнике лишь пара автобусных билетов, как прикажете вершить исторический суд над антихристами — голыми руками?
Слава богу, за унитазом припрятана склянка с хлороформом. Где это он узнал про полезные прикладные свойства хлороформа? В каком-то полицейском журнальчике вычитал. Знаете, такие журнальчики, где на каждой странице по фотовыставке трупов и тут же: чем, как, долго ли агонизировал...
А вот и рождество. Труба зовет патриотов на сражение с дьяволом. Только ее никто не слышит. Никто, кроме него, Дэвида Райса. Пугач и фляга с хлороформом — под напу-ском куртки. Бросок на попутной машине в Мадрону, состоятельный пригород Сиэтла.
Так вот оно какое, семейное логово сатаны! Снаружи вроде бы все пристойно — на двери рождественский венок.
Райс бьет тяжелым башмаком в мягкую зелень хвои. Впечатывает красные ленты в мореное дерево. Кому рождественский венок, а этим — погребальный.
Дверь распахивается. Не заперта.
Ждали гостей или свою судьбу?
Навстречу бегут мужчина, женщина, двое мальчишек. Так Райс и думал. Так и представлял себе этих предателей Америки, этих продавцов национального флага, торгующих в розницу его полосами и звездами.
О себе столько не знали эти четверо, сколько знал о них он, великий мститель Дэвид Райс. Зря, что ли, полгода клеил досье, вырезочка к вырезочке, мазал желтым фломастером, как желчью, пропитанные ненавистью строки. Благо, про эту антихристову семейку много чего писалось.
Игрушечный пистолет замотался в воздухе, целясь в лоб то тому, то другому. До чего забавно-то. у четверых так краска с лица и сбежала. Был цветной телевизор — стал черно-белый.
— Лицом к стене!—крикнул Райс.
И в этот миг увидел в настенном зеркале свое лицо. Мелькнуло: хорош! Прямо молодой Линкольн. Высокий лоб, честные глаза, густая борода. Таких парней подбирают в телевизионных «мыльных операх» на роли первопроходцев Дикого Запада, стопроцентных американцев, бескомпромиссных патриотов, отстаивающих мораль силы с винчестером в руках. Защитник свободы против красной напасти. Хорош!
Уже не торопясь, Райс рванул полу от рубахи, щедро плеснул на лоскут из фляги. По рождественскому дому пополз удушающий смрад хлороформа. Еловыми ветками и кексом с ванилью больше не пахло...
«Вопрос: Разрешите продолжить, сэр. Если говорить об атмосфере отношений США с Советским Союзом, то на днях советские представители высказали сожаление по поводу таких вещей, как фильмы про Рэмбо, фильмы про Рокки, которые изображают Советы в плохом свете. Как вы думаете, это уместные кинокартины? Вы не разговаривали со своими друзьями в Голливуде насчет фильмов, какие они снимают в эти дни?
Ответ: Нет. Я разговаривал с моими друзьями в Голливуде, когда они, как казалось, снимали прокоммунистические фильмы».
Из стенограммы пресс-конференции президента США 7 января 1986 г.
Салли Ринге видела все те киноленты: «Миссия в Москву», «Северная звезда», «Песни о России».. В Европе второй год грохотала война, эти красные крестьяне, вопреки ожиданиям, не пали ниц перед бронированным чудищем вермахта, потрясенная Перл-Харбором Америка обнаружила себя среди союзников коммунистов, и Голливуд спешил гнать горячий доллар из восхищения русскими.
Красный цвет считали тогда почти патриотичным. Сквозь кассовое окошко он казался Голливуду даже прибыльным.
У Салли Ринге радовалась душа, что все так обернулось. Уже несколько лет, как она была членом Коммунистической партии США. Туда Салли привела «великая депрессия» тридцатых. Когда очереди за миской благотворительного супа поползли, как голодные черви, по улицам, когда у дверей банков застыли скорбные толпы банкротов, а число безработных перехлестнуло за десять миллионов, девчонке из Бруклина стало ясно: это общество в ссоре с социальной справедливостью.
— Я поняла в те годы, поняла сердцем, что вся капиталистическая система буксует. Ее заклинило. Ни работы, ни зарплаты, ни вообще каких-либо благ для народа,— вспоминала позднее Салли.
Джон Голдмарк такие мысли не разделял. Дитя состоятельных родителей, отпрыск именитого клана с корнями в европейской клерикальной истории, выпускник юридической школы Гарварда, он невозмутимо взирал на депрессию с удобного классового балкона.
Они узнали друг друга в Вашингтоне. Джон ждал там эсминец, чтобы отправиться на филиппинский фронт. Поженились. Шел 42-й год.
Потом были топкие джунгли Филиппин. Разлука. Встреча. Смерть Рузвельта. Распоряжение Трумэна о «клятве в лояльности». И похоронно-торжественный радиоголос:
— Члены Ассоциации кинопродюсеров крайне сожалеют о действиях десяти голливудцев. . Мы немедленно уволим тех из десятерых, кто у нас работает, и не возьмем обратно ни одного, пока он не будет оправдан судом или не заявит под присягой, что он не коммунист,
Америка смотрела теперь другие фильмы. Из «Северной звезды» вырезали 23 минуты — все кадры, где можно было
почувствовать симпатию к русским. В картине «Военнопленный» психопат и садист в форме советского офицера измывался над американцем, угодившим, как ясно из названия, в плен. Истерзанную, но не сломленную жертву изображал актер-новичок по имени Рональд Рейган. По существу, это был допотопный вариант «Рэмбо. Первая кровь, часть вторая».
В сенате уже дергал коротко стриженной головой, возбужденно глотал слова Маккарти. Составители словаря синонимов примеряли слово «предатель» к слову «коммунист».
По настоянию мужа Салли Голдмарк вышла из компартии. Ее допрашивали в ФБР — она говорила откровенно, не считая нужным скрывать свои поиски социальной справедливости. Ее вызывали в комиссию конгресса по расследованию антиамериканской деятельности — она объясняла, что между коммунистическими идеалами и пугалом «красного террора», которым трясет Маккарти, нет ничего общего.
Члены комиссии, подремывая, вполуха слушали ее показания. А потом млели вечерами в сенатском кинозале на сеансах «Ниночки», «Шелковых чулок» или «Товарища Икс». Целлулоид клеветал не просто на чужую идеологию, он чернил Советский Союз как страну, его народ, его культуру. Антикоммунизм вырождался в русофобию. Американские социологи когда-нибудь задумаются над подлой ролью, которую сыграла антикультура маккартизма в наступлении эпохи, прозванной Лилиан Хелман «временем негодяев».
Роль, думается мне, первостепенная.
Салли и Джон бежали от этого интеллектуального удушья на просторы северо-западного штата Вашингтон. Там обзавелись небольшой фермой. Джон Голдмарк, энергичный демократ, на три срока подряд избирался в законодательную ассамблею штата.
Спокойствие и безмятежность вернулись в семью.
Когда за окном на лугу пасется конь, а домашние заботы сводятся к тому, как бы выгнать из гостиной залетевшего туда шмеля, трудно представить себе, что кто-то роется в твоем пожелтевшем досье с лупой в руке.
Но прошлое настигло Голдмарков. Энтузиасты так называемой «свободы выражения» постарались...
«Грубая, воинственная тональность телевизионного фильма может вызвать гнев советских официальных лиц, которые добиваются улучшения отношений. Такое улучшение — вещь стоящая, но оно представляет собой значительно меньшую ценность, чем наша свобода выражения».
Профессор политических наук Росс Бейкер о 12-часовом фильме Эй-би-си «Америка)), где показана бескровная оккупация Соединенных Штатов советскими войсками в форме ООН
1962 год. Джон Голдмарк — вновь кандидат на выборах в законодательную ассамблею. Наутро рядом с чашкой кофе ложится местная газета.
Заголовки — о нем: «Красный Голдмарк добивается отмены регистрации коммунистов», «Его сын учится в той самой школе, куда пригласили выступить коммуниста № 1 Гэса Холла», «Диверсант в ассамблее»
Это было лишь начало. Один журнальчик вскоре распустил по штату еще более жуткие слухи: Голдмарк отказывается салютовать американскому флагу, они с Салли на самом деле не обвенчаны, а купили ранчо по приказу компартии, дабы совратить в красную веру фермерскую общину! Коммунистический террор пришел на лесосеку!
Откуда-то вынырнул на поверхность, заголосил перед микрофонами Альберт Кэнвелл, бывший глава местного филиала комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Знаю эту Салли, божился он, знаю эту шпионку, не раз копались мы в ее личном деле, не было у них, в столичной ячейке компартии, никого главнее Салли Ринге, ей-ей. Продаст она нас с потрохами Москве, уж поверьте!
После того как эта ненависть выплеснулась на страницы кэнвелловской газеты «Бдительный», многие поверили.
На выборах Джон Голдмарк проиграл. Салли вообще не подавали руки. Времена-то смутные. Кому нужно знакомство с агентессой мирового коммунистического заговора?
На жаргоне американских газет такая травля называется «убийством характера». Через два с лишним десятилетия после соприкосновения Салли с коммунистическими идеями у Голдмарков украли их доброе имя. Украли в суете мракобесия. Украли по наущению политиканов-маккартистов. И в подражание экранным примерам патриотизма и лояльности.
Голливудская поп-культура кормила в те годы Америку такой стряпней, как «Красная угроза», «Я был коммунистом по заданию ФБР» и «Мой сын Джон». В титрах разное, а смысл один: американец, не проспи коммунистический саботаж у себя под носом! Диверсантом может оказаться твой дед, отец, брат или, согласно киноафише, «сын Джон».
Ненависть к Советскому Союзу предстала тем, ради чего она, собственно, и была вызвана на белый свет,—тисками для зажима внутренней демократии.
В затянувшейся одиссее Голдмарков эти тиски не сработали лишь раз — в 1963 году. После провала на выборах Джон подал на клеветников в суд. Процесс был громким. Со всей страны потянулись тогда в глушь штата Вашингтон свидетели, чтобы дать показания о характере Коммунистической партии США, о том, что ее идеология не угрожает Америке немедленным государственным переворотом.
И стряслось неожиданное. Присяжные, набранные кем-то по недомыслию из деревенской бедноты, решили в пользу Голдмарка. Да еще присудили ему в возмещение морального ущерба 40 тысяч долларов.
Случай редчайший. Такого больше в архивах американских судов, наверное, не сыскать.
Для нашей притчи о Голдмарках, а заодно и об эволюции американского патриотизма в жизни и в поп-культуре этот случай имеет особое значение.
Запомним: Джон и Салли были отмыты от наветов законом. Преследовавшая их тень Маккарти вроде бы метнулась в сторону. Эстафета травли оборвалась.
Но оборвалась и сама жизнь. В 1979 году Джон Голдмарк умер от рака. Летом 1985-го скончалась Салли.
Ничто теперь, казалось, уже не связывало с прошлым Чарлза Голдмарка, их сына, преуспевающего адвоката в зажиточном пригороде Сиэтла, его жену Энн и двух мальчишек — двенадцатилетнего Дерека и Колина, которому не было еще десяти. Фамильное древо пустило свежие ростки.
А на подоконник уже садились снегири — скоро рождество. На дверь повесили праздничный венок. В доме запахло хвоей и ванилью. Осуществленная американская мечта встречала пору христианского умиротворения.
«Нью-Йорк. Видеокассета фильма «Рэмбо. Первая кровь, часть вторая» сокрушила все рекорды домашнего видеобизнеса. В первый день после появления фильма в продаже поступили заказы на 425 тысяч кассет по цене 79,95 доллара за штуку. Эти заказы принесут фирме Торн Эми-видео прибыль в размере 21,44 миллиона долларов».
Сообщение агентства Ассошиэйтед
Пресс
Сиэтл хоть город и дальний, но с политической живинкой. В тот год там судили боевиков из неонацистской организации «Порядок», она же «Молчаливое братство», она же «Белый американский бастион». Список их преступлений впечатляет широтой ассортимента: убийство радиодиктора — левак был и еврей к тому же, ограбление инкассаторского бронеавтомобиля — взяли 500 тысяч; такой же грабеж чуть позднее — взяли 3,6 миллиона; изготовление фальшивых банкнотов. Деньги копились на наведение в Америке порядка. Разлиберальничалась очень страна...
Дэвид Райс, 27 лет, не имел к этим противозаконным делам никакого отношения. Абсолютно никакого. Он лишь дышал тем же воздухом. Включал, скажем, «ящик» и наслаждался телевизионной рекламой бутербродов фирмы «Уэнди» — гнуснейшей, кощунственной сценкой на фоне портрета Ленина и писанных русскими буквами лозунгов. Щелкал переключателем программ и внимал скороговорке Пэта Робертсона, знаменитого электронного евангелиста: «Братья! Дьявол коммунизма соблазняет Африку! Поддевает на рога Центральную Америку! Да не пустит христианин его в дом свой, братья!..»
Нет, Райс не принадлежал к неонацистскому «Молчаливому братству». Скорее к невидимому братству обывателей. И в этом — вся трагедия.
Один популярный нью-йоркский еженедельник так описал настроения города:
«Действуя в духе Рэмбо и общей бдительности, граждане Сиэтла все чаще ощущают позыв взять ход событий в свои руки».
Дэвид Райс был именно из таких граждан.
К тому же, как мы помним, безработным. В результате у него было время, чтобы перелистать только что опубликованную тогда книжку Уильяма Двайера «Дело Голдмарков».
Она-то и толкнула Райса на немедленные действия. Это похоже на заезженный фантастический сюжет. Какая-то случайность — взрыв в шахте, раскопки вечной мерзлоты — вдруг пробудила проспавшего столетия монстра, и вот он уже крошит клыками и когтями изумленное человечество.
На этот раз проснулся монстр «патриотизма».
...Райс действовал методично, аккуратно. Плеснув хлороформом на тряпку, прижимал к лицу очередной жертвы. Четверо упали один за другим. Сначала Чарлз, потом Энн, потом мальчишки.
Райс связал всем руки: не дай бог, очнутся. Затем отыскал кухонный нож и начал колоть, рубить недвижимые тела. «Нанес многократные удары режущим инструментом», как уточнило полицейское заключение.
Но этого Райсу показалось мало. Красный дьявол, как известно, живуч. К счастью, на глаза попался паровой утюг. Райс тут же включил его в розетку Немножко подождал, поплевал на никелированное днище. Наконец зашипело...
В комнатушке Райса полиция нашла антисоветские брошюрки и вырванные из какой-то подшивки, хрупкие от времени газетные вырезки про семью Голдмарков.
Прокурор Уильям Даунинг объяснил, что Райс напал на Голдмарков, вообразив, будто они — «лидеры американской коммунистической партии».
— Это явно ошибочное убеждение,— сказал прокурор.
Как будто дело в ошибке.

10 Осторожно : психооружие!
Умолчание — это первая линия обороны, которую занимают власти, чтобы укрыть свои аморальные и незаконные действия...
Марти Коски, жертва чудовищных экспериментов
Чужая воля
Кремовый конверт средних размеров ничем не выделялся, Адрес корпункта АПН в Нью-Йорке был написан от руки. Обратного адреса не было.
Нет, письмо не взорвалось. Но я никогда не забуду того потрясения, которое испытал, когда познакомился с его содержимым. В тощей, оттиснутой в дешевой типографии брошюрке было всего 16 страниц.
И автор прекрасно представлял, какое впечатление они могут произвести.
«Друзья,— писал он.— Я знаю, что вашим первым побуждением будет отмахнуться от меня, как от какого-то чокнутого... Знаю, что мой рассказ звучит как сюжет низкопробного фантастического боевика про шпионов. Такое никогда не случается в жизни. Проблема в том, что это все-таки случилось. В моей жизни. Это может случиться и в вашей, если мы не объединимся в борьбе за то, чтобы разоблачить эту атаку на человеческое достоинство и противостоять ей.
Я был, возможно, одной из первых жертв зловещей программы. А без вашей помощи, будьте уверены,— не последней...»
Подпись—Марти Коски, Оттава.
Дальше шли три странички, озаглавленные «Мой рассказ».
Рассказывалось, на первый взгляд, невероятное. Но только на первый взгляд.
По заданию редакции «Литературной газеты» я связался с автором письма и получил от него дополнительные сведения, имена. Таинственная история начала проясняться...
Марти Коски — финский иммигрант, осевший в Канаде. Конец семидесятых годов застал его на юго-западе страны, в городе Эдмонтон, где он работал сварщиком. Тогда-то это и случилось.
Сначала появились голоса. Какие-то голоса звучали в квартире, нет, скорее прямо в голове, накладываясь на его собственные мысли, путая их, заглушая странными командами. Марти Коски казалось, будто чужая воля проникает сквозь потолок из квартиры этажом выше.
Но мыслимо ли? Конечно, нет.
В конце концов сварщик смирился с тем, что он, по-видимому, страдает неким нервным расстройством. Денег, чтобы обратиться к врачу, не было. Впрочем, со временем «болезнь» стала представляться ему довольно безобидной. Ну, побубнит кто-то в голове некоторое время, и все. Отключается, как по часам.
Но летом 1979 года началась уже полная чертовщина.
«Мне казалось, что я теряю контроль над большинством функций тела и над эмоциями»,— пишет Коски. Словно кто-то посторонний управлял его сном, чувствами вкуса и запаха. Одна и та же еда казалась соленой, а секундой позже — горькой. Находясь в квартире, он спал не более часа в сутки, но стоило выйти на улицу, как его охватывала непреодолимая сонливость. Сердце произвольно меняло ритм, как если бы кто-то включал его, как мотор, на разные обороты.
В декабре 1979 года Марти Коски положили в больницу госпиталя университета Альберты в Эдмонтоне. Диагноз: «сердечный приступ». Никакого приступа сварщик не помнит. Но сопротивляться уже не было сил. Точнее, не было воли.
Именно здесь, в этом научно-исследовательском госпитале закрытого типа Марти Коски впервые с ужасом осознал:
нет, он не болен. Он—жертва на первый взгляд фантасмагорических, а на деле абсолютно реальных и оттого еще более жутких экспериментов.
Их цель — управление человеческим разумом. Кто-то бьется над тем, чтобы стереть в нем, Марти Коски, его неповторимую человеческую индивидуальность. Из живого человека делают робота, действующего по заложенной программе. Кто?
Кто решился на такое преступление?
«Впервые голос назвал себя,— пишет в своей брошюре Коски.— Он сказал мне, что является представителем КККП («Королевская канадская конная полиция»—главная полицейская служба страны.— В. С.) и что я избран для подготовки в качестве агента. Первая фаза моей подготовки будет проходить здесь, в условиях госпиталя...»
Бред? Фантастика?
Вспомним — автор предвидел подобную реакцию.
Отвлечемся на миг от поразительного документа. Обратимся к фактам, которые уже стали сегодня документированной историей.
Виннипег, 1952 год. Канадские секретные службы вступают в сговор с разведкой США для проведения совместного эксперимента по созданию биологического оружия. Опыт заключался в том, что над Виннипегом была сброшена с военных самолетов культура вируса,считавшегося «безвредным».
Таким образом изучалось распространение микроорганизмов в условиях воздушной атаки на крупный населенный центр. Тайна всплыла на страницах канадских газет лишь в апреле 1980 года.
Для оценки истории, случившейся с Марти Коски, здесь важно лишь одно—КККП и ЦРУ сотрудничают в опытах над людьми уже десятилетия.
Монреаль 1956—1959 гг. Толстые стены медицинского центра «Эллан мемориал» при университете Сент-Гил глушат стоны и крики в больничных палатах. По заданию ЦРУ здесь испытывают влияние сильнодействующих наркотиков и электрошока на человеческое поведение.
Подопытных пятеро: Роберт Логи, Жан-Шарль Пейдж, Джэнин Хьюард, Лилиан Стедлер и Вэл Орликофф. Эксперименты ведет руководитель психиатрического отделения д-р Ивэн Кэмерон.
Канадская газета «Лидер-пост» в номере от 13 декабря 1980 г. так описывает существо секретных исследований:
«Кэмерон... применял воздействие электрошоком, в 75—
100 раз превышающим нормальную дозу, в то время как пациентов часами заставляли слушать записанные на магнитофон команды... Некоторым пациентам вводились наркотики, чтобы погрузить их в сон длительностью более недели и таким образом заставить забыть, что их поведение было искусственно запрограммировано».
Откуда у «Лидер-пост» эти сенсационные сведения?
Из судебного иска. В 1980 году пятеро мучеников, вырвавшихся наконец из лаборатории Кэмерона, возбудили дело против ЦРУ и правительства Соединенных Штатов. Они потребовали возместить ущерб, нанесенный их здоровью Пусть заплатят жертвам, если уж инквизиторам оплачено сполна. Как стало известно, Кэмерон получил от ЦРУ за свои опыты 60 тысяч долларов и еще 35 тысяч в качестве «благотворительного взноса» в казну психиатрического отделения госпиталя.
«Я был подопытной морской свинкой в образе человека»,— заявил в интервью «Лидер-пост» Роберт Логи, один из пострадавших. Он убежден: муки, которые довелось ему претерпеть, входят составной частью в программу ЦРУ «МК-ультра». В частности, в ее раздел, именуемый «Субпроект 68».
«МК-ультра»! Редко, очень редко прорывается на страницы западных газет этот зловещий код. Цензура жестоко подавляет любую информацию о сверхсекретной программе американской разведки, изучающей способы искусственного управления поведением человека.
Под этим общим определением скрывается многое. Электронное манипулирование мозгом с помощью ультразвука и микроволнового излучения. Наркотические психотропные препараты как средство расслабления воли при допросах и идеологических «промываниях мозгов». Использование компьютерной техники в сочетании с гипнозом и другими средствами воздействия на психику для создания целых программ человеческого поведения.
Трудно представить что-либо более чудовищное и антигуманное, чем перспективные цели «МК-ультра». В ЦРУ спят и видят идеального агента-робота, мастерски выполняющего задания типа «найти и уничтожить».
Еще более заманчиво обратить психооружие против собственного народа. Заставить миллионы людей забыть о недовольстве системой социального неравенства, о борьбе за мир, о своих гражданских правах.
Угнетенный, но радостный. Обобранный монополиями, но всем довольный. Это ли не идеал гражданина с точки зрения правящих групп в странах Запада? На достижение голубой мечты не жалко миллиардов.
Именно поэтому мало кто из знающих людей поверил, когда в 1963 году администрация Картера во всеуслышанье объявила: с программой «МК-ультра», дескать, покончено. Поэкспериментировали 25 лет и хватит. Искусственно помыкать чужим разумом — это, мол, нехорошо.
Неужели прозрели?
События в Гайане опровергли картеровские заверения кровью и смертью 914 человек. Читатель помнит, в ночь с 18 на 19 ноября 1978 года там, в поселке Джонстаун, покончили с собой члены коммуны американских эмигрантов «Пиплз темпл»—«Храм народов». Якобы это была религиозная секта. Якобы главарь культа Джим Джонс вынудил свою паству к тому, что вся она, включая женщин и малолетних детей, отравилась лимонадом, в который был подмешан цианистый калий.
Такова официальная версия.
Однако позднее она стала трескаться и разваливаться, как высохший песочный замок.
Одну из важных ролей в этом сыграл Джозеф Холсингер, помощник конгрессмена Лео Райана, отправившегося расследовать слухи о «Храме народов». Законодатель был убит наемниками ЦРУ, выдававшими себя за телохранителей Джима Джонса. Холсингер установил: в коммуне—скорее всего втайне от ее руководства — орудовали американские спецслужбы. Так, по меньшей мере два ближайших помощника Джонса были штатными сотрудниками шпионского ведомства.
Вывод Холсингера: «Храм народов» хотели использовать «втемную», то есть без ведома его членов, как лабораторию для отработки компонентов уже знакомой нам программы «МК-ультра». Задачи опытов не изменились. Разведку интересовало воздействие наркотиков, бессонницы, особых диет и сеансов «промывания мозгов» на человеческую психику. Готовились люди, способные по сигналу, как механические автоматы, совершить убийство или самоубийство.
Уединенная община, запрятанная в джунглях Центральной Америки, представляла собой идеальный полигон для секретных экспериментов. Но поездка конгрессмена Лео Райана грозила сорвать операцию. Тогда-то в ЦРУ и было принято страшное решение: уничтожить «Храм народов», похоронить тайну под трупами.
На казнь 918 человек американскую разведку подтолкнуло еще одно обстоятельство. Организация трудовой коммуны в Гайане была политическим протестом ее членов против пороков рыночного общества. «Храм народов» по сути представлял собой храм инакомыслия. Беженцы от американской мечты проводили, говоря их словами, «социалистический эксперимент» и даже подумывали о том, чтобы переселиться в Советский Союз. Таким образом, у чинов в высоких кабинетах ЦРУ было немало причин вынести приговор: «Физически уничтожить!»
Такое предположение подтверждает экспертиза, проведенная доктором Лесли Муту. Главный патологоанатом Гайаны обнаружил на телах жертв огнестрельные раны и следы уколов шприцем. Причем там, где самостоятельно этого укола сделать нельзя.
Нет, дело было не в «отравленном лимонаде».
Подопытных еретиков умертвили
Программа «МК-ультра», как мы увидим дальше, жива.
Вернемся к истории канадского сварщика Марти Коски, На фоне приведенных выше фактов, она выглядит не такой уж невероятной. Более того, характер исследований, объектом которых был избран Коски, довольно точно вписывается в область, интересующую авторов программы «МК-ультра».
Вот что он рассказывает об одном из проведенных над ним опытов. Цитирую полученную мной брошюру:
«В ходе сложного и мучительного эксперимента, включавшего в себя гипноз и вспомогательные специальные средства... я был подвергнут программе индоктринации, с тем чтобы убедить меня: критика американского общества представляет собой такую же угрозу для всех нас, как раковое заболевание. Мне внушали, что я «загрязнен» и «заражен» этим «раком»...
Похоже, на Марти Коски отрабатывалась психопрограмма, так сказать, для «домашнего рынка». Именно в усовершенствовании подобных методов ЦРУ и видит психооружие будущего для борьбы с социальным протестом, инакомыслием, любым отклонением от взглядов, навязанных официальной пропагандой.
Критика властей — это «рак». Разве не с подобным тезисом наперевес администрация Р. Рейгана атакует сторонников моратория на ядерные взрывы? Дельцов, протестующих против свертывания экономических связей с Востоком? Даже католических епископов, объявивших ядерную войну аморальной? Вот всех бы их под гипноз! Всех бы разом облучить «правильными» идеями, чтобы вытеснить из сознания инакомыслие.
Цели тех, кто хотел сделать из человека подопытную особь, ясны Недоумение вызывает, на первый взгляд, другое: почему ЦРУ и КККП остановили свой выбор именно на Марти Коски? Ничем не примечательный сварщик, к тому же финн, иммигрант. Почему?
Именно поэтому. Сам Коски так объясняет мотивы своих мучителей:
«Просто случилось так, что я соответствовал набору характеристик, обладая которыми любой другой человек тоже может стать подходящим объектом. Я одинок. Единственный мой родственник в Канаде живет за тысячи миль от меня. Я не принадлежу ни к одной общественной организации, клубу или политической партии. Испытываю трудности в общении с канадцами из-за посредственного владения разговорным английским. У меня нет обширного круга знакомых и мои возможности устанавливать новые контакты ограниченны. Короче, я — идеальная мишень...»
Секта «Пиплз темпл» была спрятана от посторонних глаз в джунглях Гайаны. Финский иммигрант Марти Коски затерялся в городских джунглях.
В обоих случаях конструкторы психооружия не сомневались, что им удастся обеспечить тайну своих опытов. Не вышло.
Мадам Зодиак и К0
В начале 1980 года Коски удалось вырваться из госпиталя и бежать за границу — в Финляндию. Осуществить побег было нелегко. Агенты КККП похитили его паспорт, преследовали по пятам, пока он добирался из Эдмонтона в Торонто. Наконец настал день, когда удалось вздохнуть полной грудью,— канадская граница осталась позади.
Казалось, можно было бы затаиться, скоротать деньки среди зеленых финских лугов. Но Коски был убежден: нужно оповестить людей о том, что с ним произошло. Нужно разоблачить похитителей разума из ЦРУ. Сорвать самое страшное преступление, какое только может быть: не против одного человека — против интеллекта целых групп населения стран Запада.
«Я обеспокоен тем, что ждет в будущем канадскую (можно добавить и американскую.—В. С.) общественность»,— пишет он в своей брошюре.
С этой брошюры и началась его неравная, но удивительная по своему мужеству борьба одиночки против всесильного монстра американской разведки и стоящих за ним властей США и Канады. Коски рассылал листовки, писал письма. В них он пытался объяснить труднообъяснимое: как вроде бы свободный гражданин вроде бы свободной страны стал жертвой своего рода «телепатического терроризма».
Нет, он не просил, чтобы ему поверили на слово. Он настаивал на расследовании. В конце концов, разве не в интересах национальной безопасности немедленно выяснить, был ли он, Марти Коски, живой мишенью? Облучали ли его с помощью мощного микроволнового усилителя, как он предполагает, или нет?
Призывы наталкивались на глухую стену. Пресса и чиновники окружили его мертвой зоной молчания.
И это несмотря на то, что запрос о его деле прозвучал с трибуны канадского парламента. 30 января 1981 года депутат Уильям Домм потребовал от генерального прокурора Канады Роберта Каплана прокомментировать разоблачения Марти Коски. Через две недели прокурор пообещал, ждите, вскоре будет ответ.
Никакого ответа не последовало. 24 марта 1981 года Домм послал Каплану новое письмо с тем же запросом. По сей день главный канадский блюститель законности хранит необъяснимое и тем более подозрительное молчание.
Почему они молчат?
Марти Коски имеет на этот счет довольно определенное мнение. Он считает, что пропаганда точно учитывает особенности восприятия действительности западным обывателем.
«Дело в том, что мы целиком зависим от средств массовой информации в формировании наших представлений о реальности,— пишет он.— Если мы видим что-то по телевизору, слышим о том же по радио, читаем в газетах—значит, это действительно произошло. Если мы не видим, не слышим, не читаем—значит, этого не было. В действительности же умолчание—это первая линия обороны, которую занимают власти, чтобы укрыть свои аморальные и незаконные действия».
Поразительное разоблачение Марти Коски можно не только замолчать. Его очень просто поднять на смех. Голоса с небес? Передача человеку настроений с помощью микроволн? Управление на расстоянии сном и ритмом сердца? Программирование разума? Да пошлите вы этого неврастеника-фантазера в ближайшую аптеку, пусть купит себе большую бутыль валерьянки!
К досаде властей Марти Коски не одинок. Несмотря на все усилия подавить сведения о работах ЦРУ над психооружием, кое-что все-таки нет-нет да всплывает на поверхность.
Просматривая уже первые страницы брошюры Коски, я заметил, что многие детали его рассказа мне знакомы. Безусловно, нечто подобное уже есть в моем журналистском досье.
Ищу. Вот вырезка из американского еженедельника «Нэшнл инкуайрер» за 9 августа 1983 года. У статьи сенсационный заголовок — «ЦРУ похитило мой разум для странного электронного эксперимента».
На этот раз жертва опытов—женщина по имени Дороти Бердик — была выбрана, по-видимому, не особенно тщательно. Грабители рассудка упустили из виду, что брат подопытной — физик Массачусетского технологического института, одного из крупных подрядчиков Пентагона. Когда у Дороти Бердик начались странные явления психического характера—«голоса», вторжение чужих, явно посторонних мыслей, имеющих форму команд, словом, примерно те же симптомы, какие испытал на себе Марти Коски, она доверила свои тревоги самому близкому человеку—брату.
Цитирую далее «Нэшнл инкуайрер».
«Он (брат, имя которого не называется.—В. С.) рассказал ей о совершенно секретной правительственной программе «промывания мозгов» и сообщил, что она попала в число тех лиц, кого облучают с помощью лазера в целях проведения экспериментов по управлению разумом.. Лазерный телескоп, установленный на базе ВВС на мысе Код, штат Массачусетс, «прощупывает» жилое помещение, в котором она находится, и анализирует электрические импульсы, испускаемые ее мозгом...»
Возмущение Дороти Бердик чудовищными опытами над ней настолько велико, сообщает еженедельник, что она решила написать о пережитом ужасе книгу. Ее заголовок — «Такие вещи известны».
Да, манипуляторам чужим сознанием все труднее хранить свои тайны. Общественность стран Запада встревожена разоблачениями.
Стало известно, например, что одна из таинственных организаций, занимающихся опытами по управлению человеческим поведением,— это сверхсекретный исследовательский центр «Эдванст рисерч проджект эйдженси». Центр входит в состав Министерства обороны США. Уже не один год там ведутся эксперименты по облучению обезьян микроволнами различной мощности.
Результаты, конечно, не публикуются даже в специальных журналах. Однако интересующиеся этой темой знакомые американские журналисты говорили мне, что с помощью микроволн ученые подрядчики Пентагона добились «серьезных изменений в центральной нервной системе обезьян и других приматов».
Зловещие замыслы конструкторов людей-автоматов из «Эдванст рисерч проджект эйдженси» идут дальше. Тот же «Нэшнл инкуайрер», на свой страх и риск добывающий сведения о секретных опытах, писал 22 июня 1976 года:
«С 1973 года «Эдванст рисерч проджект эйдженси» осуществляет программу создания аппаратуры, которая могла бы читать мысли на расстоянии, расшифровывая магнитные волны, исходящие от человеческого мозга. Один ученый, допущенный к данной программе, признал, что конечная цель этих работ состоит в установлении контроля над интеллектом».
— Вон куда загнули! — может воскликнуть по этому поводу иной скептически настроенный читатель.— В конце концов в американских газетах печатают и интервью со счастливчиком, побывавшим внутри летающей тарелки...
Скептика можно понять. Есть немало коммерческих и социальных причин, по которым у американского потребителя издавна культивируют пристрастие ко всему сверхъестественному, оккультному. А тем временем наяву и в обстановке глубокой тайны происходит такое, перед чем бледнеет фантазия любых сочинителей окололитературной чертовщины.
Зима 1980 года. Каждый третий четверг каждого месяца на улицах Вашингтона появляется офицер ВМС в обычном штатском костюме. К его запястью цепочкой прикован чемоданчик-«атташе». Офицер исчезает за дверью приемной некой мадам Зодиак, известной всей американской столице предсказательницы и хиромантки.
Там он раскладывает перед мадам... совершенно секретные фотографии восточного побережья Советского Союза, сделанные со спутника. Глядя на эти снимки, ясновидящая должна предсказать предстоящие передвижения кораблей советского подводного флота. Гонорар Пентагона за один сеанс—400 долларов наличными.
Этот с трудом укладывающийся в голове, но тем не менее абсолютно документальный эпизод приведен в книге Рональда Макрея «Войны в мозгу». Макрей был репортером-расследователем у известного обозревателя Джека Андерсона. Его книга содержит обильный фактический материал, указывающий на острый, необычайно широкий интерес Пентагона и спецслужб к военным аспектам парапсихологии.
Сам Макрей скептически относится к этой, скажем так, отрасли знания. Тем более достоверно звучит такой добытый им факт: за последние годы военное ведомство США потратило 6 миллионов долларов на опыты в области экстрасенсорного восприятия и телепатии.
Еженедельник «Тайм» решил проверить эти цифры прямо в Пентагоне. Там, конечно, заняли позицию глухой обороны. «Нет, никаких ассигнований на разные суеверия в нашем бюджете нет!»
Однако «Тайм» в номере от 23 января 1984 года дает понять, что он более склонен верить бывшему директору разведывательного управления министерства обороны генерал-лейтенанту Дэниэлю Грэму. В своем интервью генерал заявил: военные бесспорно ведут эксперименты по манипуляции психикой
— Я был бы весьма удивлен, если бы наша разведка не занималась этой проблемой,— сказал Грэм.— С их стороны это было бы просто проявлением нерадивости...
Нет, ЦРУ и его военные коллеги, напротив, разбиваются в лепешку, когда речь идет об изобретении новых технических средств ущемления гражданских прав соотечественников, да и чужих подданных. И чем аморальнее эти средства, тем, похоже, больше стараний прилагается для их усовершенствования. Какая уж тут нерадивость, генерал!
Еще в декабре 1980 года журнал «Милитари ревью», издающийся армией США, поместил статью полковника Джона Александера под жутковатым заголовком «Новое умственное поле боя». Вывод автора категоричен: «Уже существуют системы оружия, которые действуют от энергии мозга... Их смертоносность уже демонстрировалась».
Рональд Макрей в своей книге прямо называет одну из программ Пентагона по боевому использованию парапсихических явлений. Она закодирована под наукообразным титулом «Новые биологические системы передачи информации». Речь идет об экстрасенсорном восприятии, проще говоря, ясновидении и телепатии, поясняет Макрей.
Репортеру «Тайма» удалось даже встретиться с человеком, который был привлечен некой государственной организацией— не уточняется ЦРУ или Пентагоном — к этим антигуманным исследованиям. Это физик Кит Харари, научный сотрудник калифорнийского исследовательского центра «Эс-ар-ай интернэшнл».
— Знаю, что наше правительство вовлечено в эти дела,— без колебаний сказал физик.— Я сам делал эту работу. Это многомиллионная программа. Ясновидение, так называемое «второе зрение»—лишь одна из ее составных частей...
Нет, Марти Коски, Дороти Бердик, о которых рассказывается в этом очерке, и десятки других людей, чьи судьбы еще не всплыли на поверхность океана информации и, наверное, никогда не всплывут, все те, кто веселит обывателя своими публичными жалобами на странные, «сверхъестественные» явления — не всегда чудаки и нервнобольные. Напротив, нередко это реальные жертвы поистине дьявольских опытов, которые ведут творцы психооружия из ЦРУ и Пентагона.
Грабители рассудка торопятся. Сегодня, когда весь мир произносит по-русски слова «перестройка» и «гласность», Запад начинает проигрывать другой системе в «обычной» идеологической битве за умы людей. Мало результатов дает и психологическая война с ее ложью, подтасовками, попытками выдать черное за белое.
Остается, похоже, одно: искусственный контроль за человеческим поведением. Технические манипуляции с сознанием, которые бы сотворили из мыслящего человека безропотного, послушного слугу общественной верхушки. Империализм тянет свои лазерные, микроволновые и прочие щупальца к самому сокровенному — к человеческой душе.
В романе Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом» девочка, обладающая способностью мысленно воспламенять предметы, в конце концов сжигает таким способом военную лабораторию, где из ее дара пытаются ковать новое оружие.
Прекрасный символ!
Люди должны объединить свою энергию, напрячь волю, чтобы остановить похитителей разума.
Живая могила на шоссе Рузвельта
Впервые я выехал на интервью, не взглянув на часы. Не мог опоздать и не мог явиться слишком рано. До 30 сентября мой собеседник будет на месте. Потом его не будет нигде.
Был поздний вечер, но мне пришлось войти к нему без стука. Он спал. Коричневое тело и замызганные шорты сливались с темной тряпицей, которой была застлана раскладушка. У изголовья, под рукой — нож с длинным, узким лезвием. Рядом валяется «Нью-Йорк пост» с фотоснимком женского трупа. Заголовок через всю страницу:
«Ее пытали, изнасиловали и зарезали, но никто не знает, за что!».
Осматриваюсь. Вообще здесь не тесно. Может быть, потому, что пожитков немного. И расставлено все аккуратно. Драные спортивные тапочки — у кровати. Груда картонных ящиков и два веника — в углу. Еще один ящик изображает обеденный стол. На нем — перевернутая вверх дном сковорода и желтая эмалированная кружка.
Только картинка с балеринами еще не повешена. Гвоздик, наверное, в стену не вошел. Стена-то тут из стальных балок сложного профиля.
Трогаю хозяина за плечо. Тот мгновенно вскакивает, хватается за нож: — Что?! Кто?!
Потом, узнав кто я, виновато щурится, разглаживает мятую после сна щеку.
— Прошу прощения, Все время приходится быть настороже. На меня уж столько раз нападали. Сами знаете, в Нью-Йорке что ни час—то убийство Вот опять, пожалуйста...
Он хлопает ладонью по газете. Речь у него грамотная, уличным жаргоном не засоренная. Но приходится почти кричать Очень здесь шумно, в этой чисто подметенной обители,
Еще бы! За низеньким бетонным барьерчиком ревет, слепит фонарями, обдает волнами удушливых газов нескончаемый поток автомашин Такая же, только красная от стоп-огней змея мчится с другой стороны. И еще грохочут колеса над головой. Мы на крохотном бетонном островке посреди оживленной Франклин Рузвельт-драйв, там, где ее пересекает 61 -я улица. Не островок это даже, а подножие стальной опоры, поддерживающей мост Куинсборо.
Кому мост, а кому—единственный кров. Например, Хозе Крузу, пятидесятипятилетнему пуэрториканцу, которого Нью-Йорк выбросил на свои улицы, как вчерашнюю газету.
Вчера, между прочим, и Круз был нужен стране. Тогда вдруг забыли, что он темнокожий. Во вторую мировую, когда пришлось служить в американских частях в Британии, Франции, Австрии, Крузу только и твердили, какой он настоящий американец и как славно выполняет свой патриотический долг.
Служба кончилась. Остался чек, который бывший рядовой получает ежемесячно от так называемой Администрации ветеранов войны.
Но чек — не работа. На него не проживешь. И разбилась, рассыпалась жизнь Круза на десятки временных занятий, приработков на месяц, удачи на час.
— Назовите любого черта, и я был в его шкуре Гладил одежду в химчистке, сортировал письма на почте, таскал ящики в магазинах и, само собой, чистил башмаки...
Потом и этой призрачной удаче пришел конец. Двадцать пять с половиной месяцев назад — Круз прекрасно помнит, какая в тот день была погода,— домовладелец не пустил его ночевать. Хоть и каморка, а платить за нее стало не под силу.
С тех пор он человек перекати-поле. И уже месяц лежит здесь на раскладушке под мостом. Живая осевая линия на шоссе имени Франклина Делано Рузвельта. Можно сказать, тоже патриотично и почетно. Тут ООН недалеко. А вон знаменитый автомобильный салон «Потамкин кадиллак». Тут нескучно...
— Администрация ветеранов знает, что вы здесь?
— Знает. Ей, администрации, наплевать. Я ведь отслужил свое на благо отчизны. Оттопал сапогами пол-Европы. Теперь до свидания... А чем, собственно, я вас заинтересовал? Вон нас сколько...
Круз махнул рукой в сторону сквера. Я пригляделся и не поверил глазам. Приходилось бывать в бедных городишках Африки, перешагивать ночью через спящих на улицах Калькутты. Но здесь, в Нью-Йорке! Люди дремлют рядком на лавках. Люди в ворохе тряпья под деревьями. Скарб тут же, при них — в детских колясках, в картонных ящиках. Сияющая витрина автосалона высвечивает мертвенные или нарумяненные, как у кукол, лица.
Бездомная, бродячая, нищая Америка, тебе, оказывается, несть числа!
Есть, утверждает Роберт Хейз, адвокат «Национальной коалиции бездомных». По данным этой организации, в начале 80-х в стране насчитывалось примерно два миллиона американцев без крыши над головой.
Так было. Но нехватка работы и дешевых жилищ, обострившаяся за годы правления Р. Рейгана, породила новое наводнение горя. По штатам кочует новая армия бездомных.
— От побережья до побережья бродит призрак депрессии 30-х годов,— говорит мне Хейз.— Растут очереди за бесплатным супом. Подвалы церквей, сараи, ночлежки переполнены. Кое-где на садовых скамейках нет свободного места ни днем ни ночью. Символом нашего времени стал картонный ящик...
В этом ящике обитает новый социальный тип бродяги. Безработица вытолкнула во чисто поле так называемых «белых воротничков», людей, обычно причисляемых здесь к среднему классу. Ночлежка в Балтиморе на 20 коек отказала только за две недели 297 просителям. Среди них большинство с высшим образованием, несколько человек с учеными степенями. В том же Балтиморе домовладельцы обратились в полицию с просьбой изгнать из квартир 22 599 семей и жильцов-одиночек. С каждым годом таких заявок на выселение становится все больше.
К зиме перед Белым домом и Капитолием появляются «рейганвилли» — палаточные городки бездомных. Рядом встают деревянные кресты. Так «новые нищие» Америки зримо показывают президенту, что ждет их в холода.
Хозе Круз не боится зимы. Не надеется он и на крест— кажется, не полагается в таких случаях.
— Запомните эту дату,— сказал он мне той ночью.— Напечатайте ее в вашей «Литературной газете». 30 сентября я покончу с собой. Мне негде, да и сил нет протянуть пятьдесят шестой год этой проклятой жизни. 30 сентября — мой день рождения. Или теперь надо говорить—день смерти? Уж не знаю, как...
Справа, слева, над головой свистело шинами, сверкало автомобильным никелем шоссе имени Франклина Рузвельта. Полвека назад этот американский президент сказал: «Я вижу треть нации в плохих жилищах, плохо одетой, недоедающей».
Не повторил бы он сегодня то же самое?
...Выли сирены. Вспыхивали мигалки полицейских автомашин. Казалось, все стражи Нью-Йорка дружно обложили опаснейшего преступника века. Сейчас выскочит с пулеметом.
Хозе Круз просто встал со своей раскладушки. Субординация у старого солдата в крови. Тут они и встретились взглядами — бездомный и человек в белом халате, которого привезли с собой полицейские.
В глазах психиатра светилось полное понимание задачи. Этот Круз — случай явно клинический. Очевидное отклонение от нормы. Не топчется ночью в очередях в ночлежки. Не кутается в парках в газеты, как 60 тысяч нью-йоркских бездомных. Вместо этого взял, да и поселился посреди шоссе!
Нужно быть совсем «того», чтобы не знать: именно по шоссе Рузвельта следует домой сам мэр Нью-Йорка Эдвард Коч. Приятна ли мэру эта картина? Тем более накануне выборов в местные органы власти? Только безумец может осмелиться на такой вызов.
— Придется поехать с нами на медицинское освидетельствование,— сказал психиатр Крузу.— Похоже, представляете опасность для окружающих...
— Два года жил на улицах, и ничего,—сказал Круз.— Опасности не представлял. Наоборот—сам был в опасности. И дела тогда до меня никому не было. Что это вдруг такое внимание?
Никто ему не ответил. Круза затолкнули в полицейскую машину и увезли в госпиталь «Белльвю», в палату для сумасшедших.
На бетонном островке расставили железные бочки с песком. Чтобы другим бездомным не пришла идея занять вакантную жилплощадь. Мэр Коч прибыл домой к ужину в хорошем настроении.
Наутро он проследовал обратно и ... чуть не налетел от изумления на тот самый островок. Бочки были сдвинуты. Песок высыпан. На нем, как на пляже, снова стояла раскладушка. На ней опять лежал человек.
Писатель Джеймс Бреслин занял место Круза в знак протеста против того, что отцы города не могут найти лучшего способа решить жилищную проблему, как отправить здорового человека в психбольницу.
Просто крыш для бедноты нет. Есть только в «желтом доме».
Бреслин — фигура здесь, в Нью-Йорке, заметная. Писателя знают не только по романам. А он изучает жизнь не только по телевизору. В свое время Бреслин баллотировался в президенты городского совета Не прошел, но это лишь прибавило читателей регулярной колонке, которую он ведет в газете «Дейли ньюс». Там, в этой колонке, писатель так прокомментировал историю, случившуюся с Крузом:
«В Манхэттене, где новые дома для богатеев каждый день карабкаются все выше в небо, число бездомных, толкущихся на перекрестках, превзошло все, что когда-либо знал город.. Отказываясь жить в отвратных дырах, которые у нас выдают за ночлежки, Круз доказал, что он один из самых разумных горожан. Если ответ города состоит в том, чтобы хватать бездомных и заточать их в палаты для душевнобольных, то ответом улицы должны стать судебные иски...»
Как видно из цитаты, Бреслин — немножко идеалист. Ему кажется, что если нет денег на крышу, то уж деньги на адвоката быть должны. Давай, улица, отвечай судебными процессами!
Улицы Гарлема, южного Бронкса и других нью-йоркских трущоб почему-то не спешат нанять здешнего Плевако. Но сам Бреслин это сделал. Он возбудил беспрецедентное судебное дело с требованием объяснить, почему Круза отправили в «Белльвю» против его воли и, главное, без положенного в таких случаях судебного заключения.
Словом, кинулся с шариковой ручкой на ветряную мельницу.
Та вяло скрипнула жерновами. На третьем этаже высшего суда штата Нью-Йорк судья Дональд Салливэн стукнул молотком. Без всяких объяснений и рассуждений постановил держать Круза в психиатрической больнице и дальше. Бездомного мятежника решили убрать с глаз долой надолго.
После суда по пути к тюремной машине Круза перехватили репортеры.
— Вы сумасшедший? — спросил один с характерной для здешней прессы душевной чуткостью.
— Не настолько, чтобы задавать подобные вопросы.
— Хотели бы выбраться из «Белльвю»?—не унимался репортер.
— Я не должен был там оказаться — вот что важнее всего.
Но он там до сих пор. «Мы продолжаем наблюдения»,— сказал мне представитель госпиталя, когда я справился о судьбе жильца с шоссе Рузвельта.
Наблюдать, конечно, есть что. Феномен интереснейший. Человек претендует на право жить по-человечески.
Гуманисты со шприцем
Сначала все выглядело благополучно. Утром Донна Холмс приезжала в серую четырехэтажную коробку дома №74 в нью-йоркском районе Куинз. Вечером уезжала. Работала по профессии — медсестрой.
Нервы не выдержали 26 марта 1984 года. Благополучие сменилось отчаянием.
В письме, направленном в тот день администратору госпиталя Гридмор, Донна Холмс молила о переводе ее из так называемого «специального отделения». Как можно быстрее, прямо сегодня!
«Я рыдаю, когда вижу все это,—расплывались буквы.— Надеюсь, мой перевод произойдет до того, как случится еще одна смерть...»
Что же творилось в особом отсеке нью-йоркской психиатрички Гридмор? В катакомбах карцеров того самого дома №74, что благолепно приютился в тени церквушки?
— Буквально все! — не может по сей день прийти в себя медсестра.
Нет, поначалу специальное отделение даже ей приглянулось. Картинки с изображением розовощеких детишек на стенах Телевизор — правда, за обшитой железом дверью, которая всегда на запоре.
Но осваиваясь на новой работе, присматриваясь к тому, что происходило вокруг, Донна с ужасом начала понимать: ох, далеко не обычный это «желтый дом». Тут что-то другое...
Начать с того, что пациенты доставлялись сюда почему-то только из тюрем и только с одним диагнозом—«шизофрения». Между тем, как написал позднее журналист Филип Шенон, осмелившийся на собственное расследование, «многие пациенты обладали нормальным рассудком».
Взять теперь медицинский персонал. Коллегами этих людей Донна назвать не могла. Тем более что ей удалось заглянуть в конфиденциальный доклад, где отмечалось:
«Штат отделения не имеет никакой особой подготовки по обращению с пациентами».
Для точности тут надо было бы добавить: медицинской. Своеобразная подготовка все-таки была. По вышибанию из людей подозрительной сегодня в Америке способности думать вольно и критически.
Бамбуковые жерди, обитые свинцом палицы — вот чем «лечили» обитателей особого сектора Гридмора тюремщики. На глазах у ошеломленной Донны несчастных с силой бросали на бетонную стену. Прикручивали липкой лентой к матрацам, пропитанным экскрементами. И вразумляли дубинками — в четыре руки, а то и всей сменой...
Наивно полагая, будто весь этот садизм — самодеятельность распустившегося, безграмотного персонала, Донна бросилась за помощью к заведующему отделением. Но тут же поняла: жалуется на блох тарантулу.
— Он предупредил меня,— вспоминает медсестра,— что, если кто вздумает перекраивать его порядки, тому из госпиталя скатертью дорога. Я испугалась и больше уж не говорила ничего...
Но, помимо воли, смятенный мозг продолжал осмысливать происходящее. Как детские кубики, складывались воедино, казалось бы, разрозненные факты.
Специальный отсек был открыт в 1980 году — с приходом новой правительственной администрации. У надсмотрщиков на руках были пустые, но заверенные врачом бланки рецептов. По ним в госпитале выдавали лошадиные дозы наркотиков, которыми «глушили» пациентов. Значит, такова официальная «терапия»? А какова же цель?
Присматриваясь к составу заключенных, Донна обратила внимание, что среди них есть люди латиноамериканского происхождения. Вот, например, этот обаятельный парень с усами — Роберто Венегас. Американский гражданин, но выходец из Колумбии. Только в ноябре женился, и жена тоже эмигрантка — из Гватемалы. Улыбчивый этот Роберто. Много знает. Знает, например, что в середине июня исполняется 30 лет, как американская разведка сбросила в Гватемале конституционное правительство...
До траурного юбилея Роберто не дотянул.
5 марта. 7.45 утра. Пациент Венегас брошен в карцер — якобы за «неспокойное поведение».
13.15. Подружка Донны медсестра Бекетт услышала дикие вопли Заглянула в карцер: Венегас в смирительной рубахе лежал на спине. Надсмотрщики сидели на нем верхом, избивая несчастного дубинками.
13.45. Венегаса все еще в смирительной рубахе посадили в инвалидное кресло и привязали липкой лентой к колонне.
15.30. Надсмотрщик Хейнс нанес ему несколько сокрушительных ударов по шее.
17.45. Венегас найден мертвым. Вскрытие показало: смерть наступила в результате удушья, вызванного разрушением гортани. Следы на шее оставлены ударами тупого инструмента.
Вот что случилось 5 марта 1984 года в Нью-Йорке, пока здешняя демократия величественно готовилась к очередной волне первичных выборов, а журнал «Ньюсуик» на странице 53 рвал и метал, что американских корреспондентов в Москве будто бы не пускают к кому-то в гости.
А тут диссидента — в секретную психушку и свинчаткой по горлу!
Насчет того, что Гридмор — это жернов для перемалывания политического протеста, сомнений мало. Рональд Кьюби, юрист из нью-йоркского «Центра конституционных прав» так прокомментировал мне убийство Роберто Венегаса.
— В историческом плане использование таких методов социального усмирения — не новинка. При Рейгане же это, так сказать, мода сезона. Активисты из организаций солидарности с борьбой народов Центральной Америки рассматриваются как одна из главных мишеней для репрессий. О новом законе слышали?
Я слышал. Билль, представленный в те дни на одобрение конгресса, объявлял преступниками тех граждан США, кто оказывает помощь странам, охарактеризованным властями как «террористические». Например, знакомая Рона Кьюби, тоже медсестра, организует отправку медикаментов в Никарагуа. Теперь ее—под суд.
— Распахивается дверь для разгрома движения солидарности,— мрачно подытожил Кьюби.— Причем с помощью тайной агентуры, платных провокаторов, специальных психушек. На американцев спускают «команды смерти», как на сальвадорцев. Учили-учили и сами выучились.
Прощаясь, Кьюби с горькой иронией заметил, что в Америке все лучше. «Возьмите, например, смертную казнь». Юрист прав. Хотя это социальная услуга и не такой уж первой необходимости, а все-таки какой здесь, в Штатах, широкий ассортимент!
Можно отправиться к праотцам, сидя на электрическом стуле. А можно тоже сидя, но в газовой камере
Вообще-то душегубные свойства газов в замкнутом помещении успешно прошли массовые испытания еще в коричневые времена. Но Америка, как всегда, впереди. Полезное кое-кому изобретение поставлено здесь на службу обществу на регулярной основе.
Тем не менее администрация не спит на лаврах. В процедуре смертной казни, как ей кажется, еще не хватает той заботы о правах человека, с которой она, администрация, носится последние годы. Мало там гуманизма. Гражданин, приговоренный к смертной казни, испытывает заметные неудобства, когда его прошибают электрическим разрядом в 3000 вольт или душат газом.
Естественно, это маленькое несовершенство американского образа смерти глубоко волнует правительство. Бездомные, безработные—те еще подождут. А смертник ведь ждать не может. Ему подавай гражданские права сию минуту.
И подали. С 1982 года из Вашингтона поощряют введение в некоторых штатах смертной казни путем инъекции. Проще говоря, колют отраву. Власти представили новшество чуть ли не как грандиозное достижение рейганизма в области социального обеспечения. Как оздоровительный укол в вену американской демократии. Теперь убивец ли ты, насильник-рецидивист или просто злостный растлитель малолетних — в свободной стране Америке имеешь полное право не только на сладкую жизнь — на сладкую смерть Еще один кукиш тоталитаризму.
В свою очередь здешние газеты и ТВ буквально изошли слезами умиления по поводу новой разновидности смертной казни. До чего цивилизованно и гуманно!
В те дни в тюрьме Техаса таким образом сподобился уйти в мир иной некто Д.Отри. Предыстория его дела такая. В апреле 1980 года Отри захотелось пивка. В лавке города Порт-Артур, как назло, ни банки не было. В состоянии острой жажды Отри тут же прихлопнул из пистолета хозяина магазина, продавца и тяжело ранил покупателя.
Теперь по решению суда ему предстояло успокоиться навсегда после укола шприцем.
С явного благословения сверху газетный ажиотаж вокруг «самой гуманной в мире смертной казни» достиг оглушающей силы. В то же самое время агентура ЦРУ обложила порты Никарагуа минами. Советник президента попался на распродаже влияния за взятки. «Новая мораль» Рейгана, обещанная им при вступлении в должность, испарялась, как медуза на солнце. Но обыватель прилип к телевизору, приклеился к газетной странице, где расписывали «благородную этику» химического умерщвления.
Шумиха дошла до того, что одна тридцатидвухлетняя девушка из Далласа заочно влюбилась в убивца до беспамятства.
Гуманизм так гуманизм! Девице тут же предоставили возможность присутствовать при казни. У нее на глазах тюремный медик любовно протер Отри руку спиртом и спросил, хочет ли тот произнести последнее слово. «Нет». Медик всадил шприц.
Что произошло дальше, ошеломленная Америка прочла в еженедельнике «Ньюсуик», корреспондент которого оказался тут же, да еще с магнитофоном.
Преступник агонизировал десять минут. И разговорился. Журнал доводит описание этой сцены до накала греческой трагедии. «Я обожаю тебя, беби!» — его ладонь судорожно сомкнулась, будто просила милостыню. «Я тебя тоже— карие глазки!» — она послала ему воздушный поцелуй...
И так далее на целую страницу. Казнь убийцы? Нет, безвременная кончина нового Ромео, испившего не то снадобье.
Репортаж «Ньюсуика» — это пик идеологической кампании, увлекшей за собой миллионы американцев. Ее цель— навязать им вывернутые наизнанку моральные нормы. Гуманно— негуманно. Демократично — недемократично. Все сознательно поставлено вверх дном в доме, где преступник ходит в героях-любовниках
Неудивительно, что это замечают лишь единицы. «Меня бьет дрожь от тревоги за умственное состояние ваших журналистов»,— написала в «Ньюсуик» по поводу этого репортажа одна читательница. Тревожиться нечего. Те знают, что делают.
И не одни они делают. Кладбищенский гуманизм здесь крепчает.
Как раз в те дни губернатор Колорадо Ричард Лэмм во всеуслышание объявил, что «на престарелых американцах лежит обязанность вовремя умереть». Взял, так сказать, на себя заботы господа Бога.
Его идея была встречена с большим пониманием в «Гуардиа», госпитале в том же нью-йоркском районе Куинз, где находится уже знакомая нам психиатрическая больница Гридмор. Врачи «Гуардиа» вешали розовые бирки на кровати тех пациентов, кого, как они считали, не нужно спасать в случае кризиса, После смерти больного бирки сжигались. Госпиталь, похоже, выкручивался таким образом из финансовых трудностей,— они стали невыносимыми после того, как власти урезали смету на здравоохранение.
Розовые бирки, свинцовые палицы, «обязанность умереть»... Зачем же так мудрено?
Не проще ли всех неугодных, ненужных, строптивых, вольнодумствующих, лишних — раз! — и шприцем в вену?

12 Империя страха
Духи, вампиры — все это, конечно, страшновато, но прелесть такого страха вот в чем: забываешь, что в конце месяца надо оплатить счет за электричество. Это отдушина от ужаса обыденности
Стивен Кинг, американский писатель
style="text-align: center;">Американцы, будьте бдительны!
Мне казалось, будто я схожу с ума. Не очень-то объяснимое состояние, когда всего лишь сидишь на лавочке у океана, вокруг воркует курортный городок, а на коленях занимательная книжка.
Городок был Дейтона-Бич, штат Флорида.
Книга — «Кристин», один из последних романов Стивена Кинга.
Сначала о городке. Там пришлось переночевать случайно, спасаясь от закрытых для советских журналистов зон. Снял гостиничный номер, вышел к океану оглядеться.
Берега не было. Пляжа тоже. То есть присутствовало и то, и другое, но серебристые крупинки песка, жемчужные осколки ракушек, зелень травки — вся эта архаика, именуемая природой, была погребена под полутораметровым слоем листовой стали и лака.
Все побережье, как саранча, покрывали автомашины, Люди загорали на крышах автомашин. Люди закусывали в автомашинах. Прямого соприкосновения человека с землей не наблюдалось.
Вдоль кромки прибоя медленно ползли в обе стороны два ряда автомашин. Водители разглядывали водителей, пассажиры — пассажиров. Человеческие головы в оконцах казались украшением к автомобилю, привинченным за дополнительную цену. Что-то вроде лишней фары.
Моторизованная до унижения всего живого Америка отдыхала.
Потом я узнал, что Дейтона-Бич — своего рода мекка тех, кто помешан на любви к своим четырехколесным друзьям. Что каждый март здесь устраивают авто- и мотогонки. Что мотоциклетные банды «ангелов ада» оккупируют на эти дни все отели и пивнушки.
А на дворе как раз был март.
Ночью и утром колонны автокентавров продолжали свой ленивый променад по пляжу. Благодаря роману Кинга одного я уже знал в лицо. Точнее — в радиатор Мимо меня катал взад-вперед искореженный, изъеденный ржавчиной «Плимут-фьюри» 1958 года выпуска с прыщавым бледным парнишкой за рулем. Семнадцатилетний Арни Каннингхэм прогуливал свою подругу.
Только Арни да я знали жуткую правду. Его «Плимут-фьюри», его битая, дряхлая Кристин, как он звал свой автомобиль ... живое существо! Да, именно так! Более того: в зловещем мире, где жизнь и смерть — все на колесах, человеческая плоть незримо сообщалась с металлом карбюратора, цилиндров, картера, как органы одного существа.
У них одна кровь. Одна энергия.
Вот почему, чем больше катал Арни свою Кристин по улицам, тем краше она становилась. Спидометр крутился назад, сбрасывая километры и годы. Ржавчина уступала место сверкающему лаку. Вмятины выправлялись сами собой, словно невидимая рука выстукивала их резиновым молотком.
Кристин вытягивала соки из Арни, обрекая парня на безумную, всепожирающую любовь к себе. Стальное чудище готовилось к расправе с недругами Арни. К сокрушению мира в его семье. К фантасмагорической охоте на его девушку, когда—лишь рев мотора, визг тормозов да стоны истлевших трупов, вцепившихся в руль...
Кусок металла ревновал и ненавидел. Человеку же не оставалось ничего, кроме обожествления этого металла.
В курортном городке Дейтона-Бич я читал роман Стивена Кинга «Кристин». Когда рассказал об этом автору, тот звучно, от души расхохотался.
Из нашей беседы:
— Я читал и думал: как все-таки безупречно точна ваша философская аллегория автомобильной цивилизации Америки. Мотор на колесах грабит сердца американцев?
— Убежден в этом. Автомобиль дал нам кое-что в смысле новой мифологии, какого-то вклада в национальную культуру. Но отнял намного больше, чем дал. С другой стороны, что бы мы делали без автомобиля? Америка — страна гигантская, и она объединила себя не рельсами, а бетоном. Но автомобиль превратился в фетиш. Если в 17 лет у тебя его нет, пусть в кредит,— значит, ты вроде бы не живешь.
Какое-то зло гнездится, скажем, в том же Нью-Йорке, где из конца в конец вряд ли доберешься — как раз из-за перенасыщения машинами. Посмотрите на нью-йоркских таксистов. Они водят свои желтые коробки на колесах, как иные солдаты воюют—автоматически, без мысли, с покорным отчаянием. И это еще один символ того, что сделал с нами Его Величество Автомобиль.
— Сюжеты ваших книг нередко обгоняют технический прогресс. Замечаете ли вы влияние технотронной цивилизации на развитие культуры? В частности, на процесс литературного творчества?
— Пока не пришел к выводу на этот счет. Давайте скажем так: все эти компьютеры, электронные «обработчики слов», они, конечно, что-то делают с нами... Сегодня люди думают не так, как, скажем, до изобретения атомобиля. Он преобразовал и наше представление о мире, и само наше мышление.
Но как? Спросите меня через десять лет—может быть, скажу.
Пока только знаю: влияние неоспоримо. Это как если бы подмешать нечто к питьевой воде. С людьми будет что-то происходить, а что? Время покажет. У меня есть электронный «обработчик слов», но я лишь редактирую на нем, выправляю рукопись. Писать на телевизионном экране мне тяжело — уж очень непохоже на то, как привык работать. Обычно сижу за пишущей машинкой...
Стивен Кинг сидит за пишущей машинкой с начала семидесятых годов. Причем с фантастическим успехом. Писатель молод, а у него уже вышло более десяти книг. Их общий тираж проломил потолок книгоиздательских рекордов Запада — свыше 40 миллионов экземпляров! В любом аэропорту, газетном киоске, в любом универмаге выстроились кингов-ские шеренги: «Кэрри», «Свечение», «Мертвая зона», «Воспламеняющая взглядом», «Куджо», «Разные сезоны», «Кристин», «Кладбище домашних животных»...
Отошел американец от киоска, взглянул на киноафишу — и тут Кинг. Голливуд голодным коршуном набрасывается на очередной сюжет и в два-три месяца упаковывает его в целлулоид. Подсчитано, что после Чарльза Диккенса никого столько не экранизировали, как Кинга.
Последние десять лет без этого имени немыслим и любой список бестселлеров. Новинка тех дней—«Кладбище домашних животных»—оставалась там несколько месяцев.
Если где-то в литературной рубрике газеты темно от восклицательных знаков, значит, речь о Кинге. Точнее — вопль.
«Что может быть лучше доброго смачного ужаса?!! Стивен Кинг—король этого мрачного искусства потемок!!! Он запугал миллионы людей — запугает и вас!!!»
Любопытно, что Кинга хлопают по плечу только в качестве мэтра литературы ужасов. Певца мистического, иррационального, чуть ли не оккультного. С этой критикой скрещиваются перья тех литераторов, кто при упоминании Кинга делает брезгливую мину.
— Чтиво для зала ожидания! Чертовщина под соусом насилия!
Иначе говоря, писателя носят на руках и топчут примерно за одно и то же. Но если присмотреться, к ужасам не сводятся все особенности его творчества. Именем Кинга как бы играют в пинг-понг. Отвлекают внимание читающей публики, не давая ей заприметить то глубокое и тревожное, что оправлено у Кинга в леденящие душу эффекты.
Надо сразу признать: писатель охотно подставляет себя под критические удары. Он часто свинчивает сюжеты из деталей тех же конструкторских наборов, какими пользуются сочинители так называемых «вокзальных романов». Более того, их авторы даже могли бы кое чему у Кинга поучиться. Патология и насилие доходят в иных его книгах до шизофренического накала. Скажем, в «Куджо», по сути, нет ничего, кроме клинически верного описания сцен, где бешеный сенбернар рвет на куски и вкусно гложет одного персонажа за другим.
И все-таки не этими кошмарами интересен Стивен Кинг. Совсем не этим. Советские читатели, познакомившиеся с романом «Мертвая зона», могли убедиться: детективная интрига, неисследованные явления человеческой психики — все это лишь скорлупа, из которой выклевывается на свет главное, истинно кинговское.
Герою «Мертвой зоны» Джонни Смиту не так уж трудно предотвратить воцарение в Америке президента-фашиста. Смит наделен сверхъестественным даром провидения.
Но еще чудеснее, думается, дар самого Стивена Кинга. На своем рентгеновском снимке Америки недавнего прошлого писатель зорко замечает метастазы нацизма, торжествующую ухмылку реальных «смеющихся тигров». Опознать угрозу, успеть крикнуть фучиковское «Люди, будьте бдительны!»—это сегодня в Америке, пожалуй, не менее удивительная редкость, чем экстрасенсорное восприятие.
Беседа с Кингом утвердила меня в этой мысли.
— Вот здесь у меня два отзыва советских критиков на вашу «Мертвую зону». Они прилагают большие старания, чтобы как-то определить жанр, в котором вы работаете. Один говорит: это родниковой чистоты научная фантастика. Другой говорит: это смешение жанров, тут и ужасы, и философская аллегория, и детектив. Последнему критику кажется, будто вы продолжаете традиции Вашингтона Ирвинга, Стивенсона, Веркора, Воннегута, Ингмара Бергмана... А вы сами как бы определили свой жанр?
— «Мертвая зона», думаю, научная фантастика. Книгу, правда, почему-то представили у нас на премию «Уорлд фэнтази». Ее присуждают за литературу ужасов, оккультные фантасмагории — за такие вот штуки. Попросил жюри снять книгу с конкурса. Мой герой может заглянуть в будущее, но причина тому совсем не метафизическая. Мальчиком он упал и ушиб голову. Что-то случилось у него с мозгом. Иначе говоря, из сюжета следует: это не деяние господа, здесь происходит что-то физиологическое.
Читатель, думаю, ставит себя на место Джимми Смита. Если тот обладает такими способностями, что, если они появятся у меня? Да-да, у меня!
Когда я писал «Мертвую зону», у нас в штате Мэн, где я живу, был один губернатор, его избрали как независимого. То есть он не принадлежал ни к одной партии. Моя жена называла его «человеком на лошади». Прискакал как бы ниоткуда. И заявил: «Я тут вам все устрою. Только слушайте меня. Изберите меня губернатором, а я все улажу». Народ поверил. Оказалось же ... Не хочу сейчас вдаваться в детали, поскольку он уже умер. Во всяком случае, губернатор зашел в своей безнравственности довольно далеко. И я подумал: а что если такой человек станет нашим президентом? Писать книгу было очень интересно...
— Говорят, был период, когда вы зачехлили пишущую машинку и с головой ушли в избирательную кампанию сенатора Гэри Харта. Почему?
— Думал, что он мог бы победить Рейгана и тем самым преподнести прекрасный подарок человечеству. Тогда Рейган стал бы политиком в отставке и потерял бы доступ к власти.
— Что вам так не нравится в Рейгане?
— Он несдержан. Не очень-то толков, когда дело касается свежих идей. Не проявляет подлинного интереса к переговорам, которые бы поставили под контроль галоп вооружений. Затопил Европу оружием в то время, когда всем нам ясно: оружие — единственная вещь, которая человечеству не нужна. Его политика за рубежом выдержана в духе «дипломатии канонерок». Нет-нет, он прекрасный президент для меня как для капиталиста! Все прекрасно с акциями и биржевыми курсами, с этим у меня все в порядке. Но я не хочу лишить своих детей шанса стать взрослыми, понимаете?
Настало время перемен. Под этим я отнюдь не подразумеваю, что мы, американцы, вдруг станем агнцами и заблеем: «Относитесь к нам хорошо, а уж мы сложим оружие и будем уповать только на доверие!» Нет, Гэри Харт, например, выступал за крепкую оборону. Однако он был больше заинтересован в разумной оборонной политике в отличие от «звездных войн», атомных бомб в космосе и прочего дерьма. Харт был заинтересован в том, чтобы помочь людям без достатка. Рейган же бежит от таких сломя голову.
— В «Кристин» ваш Роланд Лебей говорит: «Если кто-нибудь спросит вас, парни, что худо в этом мире, назовите тогда три зла: врачи, коммунисты и ниггеры-радикалы. Из трех—«комми» хуже всего...» Конечно, это просто болтовня одного из персонажей. Но нет ли, на ваш взгляд, подобных настроений у правящей верхушки страны? То есть когда ненависть к «комми» ставят впереди всего?
— Есть, и в изобилии. Из таких настроений выжал себе поддержку Рейган, когда его избрали в 1980-м. В этом заключен его призы в к иррациональному, игра в святого. А иррациональное никогда к добру не ведет вне зависимости от того, кто этим увлекается. Нет сомнений: нам навязывают настоящую, остервенелую, как бы ее назвать... коммунизмофобию. Ее, знаете, лелеют, пестуют, искусственно вскармливают...
Крушение «мира, каким мы его знаем»
Если бы это интервью Кинга каким-то чудодейственным способом, скажем, путем телепатии — на американских репортеров в Москве я не надеюсь — дошло до Соединенных Штатов, миллионы поклонников «короля ужасов» онемели бы от изумления. Вот была бы сенсация!
Ведь Стивен Кинг — в некотором смысле человек-невидимка.
Его авторское «я» скрыто, закручено-заверчено в бушующий вокруг него тайфун бульварной критики. С ее преобладающей точки зрения, он — полугений, но тоже бульварный. Еще один умелец стращать, только посноровистее других. Конечно, читатель поумнее видит: Кинг за гуманизм против бездуховности, за мир против ядерной зимней ночи, за нравственность против «смеющихся тигров», куклуксклановцев, нацистов и прочей нечисти всех мастей.
Но Стивен Кинг — гневный обвинитель рейгановской администрации? Трезвый наблюдатель американской политической сцены? Противник «коммунизмофобии»?
Убежден: такой Стивен Кинг Америке неизвестен.
В библиотечных архивах я не сумел найти ни одного журнального интервью с писателем. Есть несколько его собственных статей о проблемах детектива. И есть огромное количество его портретов — в вычурных, мрачных позах, с фиолетовой подсветкой лица снизу вверх, с раскрашенными киноварью, словно налитыми кровью, волчьими глазами.
Мэтр устрашения блюдет свой «имидж», образ, или кто-то блюдет за него.
Позднее, когда мы стали на «ты» с Кей Макколи, его литературным агентом, она рассказала, что к Кингу стоят в очереди за интервью десятки репортеров, и американских, и из-за рубежа. Надежды у них мало. Не знаю, почему Кинг согласился на беседу с советским журналистом. Правда, за меня просили влиятельные американские друзья. Но главное, думаю, в том самом, чего не распознать в портретах с волчьими глазами. В неизвестном Стивене Кинге. В его непредвзятой общественно-политической позиции, в уважении к стране социализма, к ее культуре и научно-техническим достижениям.
Кингу интересно, что он интересен нам.
Кое-какие приметы таких настроений я нашел в обойденной вниманием рецензентов, полузабытой публицистической книге Кинга «Танец смерти».
На первый взгляд, это гимн фильмам и литературе ужасов. Автор пересказывает содержание сотен таких кинолент и книг, цитирует диалоги героев, ссылается на теорию катарсиса и «репетицию читателем собственной смерти». В конце книги — список двухсот произведений такого жанра, где звездочкой помечены его «самые любимые». Кинг прекрасно знает свою среду обитания.
Но «Танец смерти» любопытен другим. Он открывается главой «4 октября 1957 года»—о великом потрясении, пережитом автором в юности. О том, что пробудило в нем интерес к общественной психологии страха.
Десятилетним мальчишкой Стив сидел на дневном кино-сеансе и наслаждался космической бойней в популярном тогда боевике «Земля против летающих тарелок». Внезапно показ прервали. На сцене появился потрясенный директор кинотеатра. «Хочу сообщить...— сказал он срывающимся голосом.— Русские запустили космический сателлит. Они назвали его... спутником».
Стив испытал в этот миг только то, что он должен был испытать,— парализующий, как удар тока, страх. «Мы были детьми,— пишет он,— мы листали книжки комиксов, где наш вояка Кейси вышибал зубы у несчетного числа северокорейцев. Мы были детьми, у кого на глазах Ричард Карсон ловил каждый вечер тысячи шпионов-«комми» в телевизионном сериале «У меня было три жизни»...»
Детское сознание было отравлено ложью о «русской угрозе». Спутник предстал перед Стивом той самой киношной летающей тарелкой, которая атакует Землю.
Но одновременно случилось и другое, куда более важное. Развалилось то, что Стивен Кинг называет «миром, каким мы его знаем». Рухнули пропагандистские стереотипы, в плену которых живет-поживает обыватель. Монополия Америки на мировое всесилие, на роль пионера-первопроходца—это осталось в доспутниковой эре.
Вьетнам завершил сокрушение «мира, каким мы его знаем», излечение отравленного сознания. В университете городка Ороно, штат Мэн, Кинг пишет дерзкие колонки в студенческую газету, шагает в рядах антивоенных демонстраций.
После окончания университета на работу по профессии — преподавателем—устроиться не смог. Из-за тех колонок? Кто знает... «Я стирал простыни в заводской прачечной за доллар 60 пенсов в час и писал «Кэрри» на кухне прицепного автовагончика. Дочка, которой был тогда всего годик, одевалась в нищенское тряпье. Годом раньше я обвенчался с женой Табитой во взятом напрокат костюме, он был велик на несколько размеров...»
Из нашей беседы:
— Это о той поре вы пишете в «Танце смерти»: «Я курил наркотики, но не так уж часто»?
— Было. В свое время курил и глотал разную дрянь — но это в прошлом...
Весной 1973 года издательство «Даблдей» выпустило роман «Кэрри». Его сюжет напоминает «Воспламеняющую взглядом»—история девочки, которая находит защиту от людской жестокости в своем удивительном даре.
Стивен Кинг и его жена Табита наконец получили возможность стать писателями-профессионалами...
Но Кинг не забыл, как он вырвался из «мира, каким мы его знаем». Некоторыми своими книгами он стремится ускорить прозрение других.
— Меня поражает одно несоответствие,— говорю я.— Вот вы — один из популярнейших писателей Запада. По вашим книгам выходит один кассовый фильм за другим Но американская критика — а она неизменно благоволит к успеху— относится к вам, я бы сказал, с оглядкой. Она, критика, обнаруживает вдохновение в новом варианте «Дракулы», а вот в Стивене Кинге ей что-то остро не нравится. Как вы думаете, что?
— Надо сказать, меня больше волнует оценка моих книг, чем поставленных по ним фильмов. К фильмам я, как правило, не имею никакого отношения, кроме, конечно, продажи авторских прав. Наши студии одержимы идеей перекроить все на свой лад. Это работа для идиотов...
Вообще же отношение к популярности у нас такое: если книга нравится многим, значит, она не может быть особенно хороша. Вроде бы потакает низменному вкусу толпы. У нас бытует элитарная концепция: только изощренный мозг, дескать, оценит изощренное произведение. Критерий «высокого искусства» — оно будто бы существует для единиц. И, действительно, не много у нас людей посещают, скажем, музеи, чтобы взглянуть лишний раз на гениальные полотна и скульптуры.
Да, мои работы на редкость популярны. Сам буквально ошеломлен этим. Не особенно понимаю этот феномен... Хотел бы думать, что сделал все, что было в моих силах, как писатель. Что был честен. Не нагородил лжи. Пронес своих героев по страницам, так сказать, чистыми руками...
— Как считаете, откуда такой интерес массовой культуры к ужасному, сверхъестественному? И почему сегодня? Есть ли социальные причины, вызывающие духов и поднимающие мертвецов из могил?
— Во многом это эскапизм. Духи, вампиры, да и «второе зрение» — все это, конечно, страшновато, но прелесть такого страха вот в чем: забываешь, что в конце месяца надо оплатить счет за электричество. Понимаете, что я имею в виду? Это отдушина от ужаса обыденности.
Кроме того, заявляет о себе жажда прикоснуться к тому, что таится за границей пяти чувств. Присущий обывателю поиск жизни после смерти. Когда кинорежиссер Стэнли Кубрик снимал «Свечение», он позвонил мне и говорит: «А знаешь, в твоем сюжете уйма оптимизма».— «Почему?»— изумился я.— «Потому что, если есть духи и призраки — значит, мы не умрем». В сущности, массовая культура в ее потустороннем варианте — это своего рода гражданская, светская религия.
— В рассказе «Кукурузные дети» — по нему тоже вышел фильм — вы исследуете влияние религии на человеческую психику. Я, например, убежден: религия при Рейгане играет все более опасную политическую роль. Не тревожит ли вас то, что происходит в этом смысле в стране?
— Моя точка зрения такая. Не знаю, согласитесь вы или нет, но в любой церкви позади того места, где стоит священник, есть комнатка, полная оружия. Рано или поздно святой отец распахнет эту дверку и скажет: «Каждый берет по ружью! Мы сейчас застрелим такого-то во славу господа!» Вот к чему ведет религия — рано или поздно кто-то приставит вам к виску дуло. Многие из этих опасений я вложил в новеллу «Кукурузные дети»...
Между прочим, я воспитывался в очень религиозной семье. Приемлю многое из религиозной этики и философии. Но даже сам Христос сказал: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят, на углах улиц останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми... Войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись...»
Каждый раз, когда я вижу этого парня Джерри Фолуэлла (лидер ультрареакционной клерикальной организации «Моральное большинство».— В. С.) и других типов, проповедующих миллионам людей, мне хочется сказать им: «Затворите дверь и помолитесь!»
Рейган вылезает под телекамеры и молится. А ведь он не был в церкви много лет. Что за лицемер! Просто невероятно...
— Если бы я спросил, от чего вам, мастеру ужасного, самому бывает страшно до мурашек, что бы вы назвали?
— Если говорить о личном, то больше всего боюсь, как бы у меня не умер ребенок. Опасаюсь также, что террористическая группа может захватить большой город, использовать для шантажа ядерную бомбу. Но больше всего, наверное, боюсь ядерного конца света.
— Думаете, есть основания опасаться?
— Если мы, я имею в виду человечество, не будем предельно осмотрительны, можем прикончить самих себя в какие-нибудь ближайшие десять—двенадцать лет. Мы явно менее осторожны сегодня по сравнению с теми временами, когда я был ребенком. В мире сейчас много деятелей, потрясающих кулаками и восклицающих: «Ну-ка, иди сюда, я тебе...» Это называют дипломатией.
— Есть сообщения, что Пентагон выделил 6 миллионов долларов на исследование военных аспектов экстрасенсорного восприятия, столь милого вашему сердцу. На какие мысли наводит такое развитие событий?
— Их там, в пятиграннике, интересует любая лабораторная колба, где можно сварить взрывчатку. Печальная логика состоит, однако, в том, что рано или поздно другая сторона вынуждена догонять нас по ассортименту орудий уничтожения. Меня лично глубоко расстраивает, что экстрасенсорное восприятие загоняют в траншею. Напротив, надо бы объединить усилия, чтобы наука побыстрее разобралась в этом явлении. У меня, вы знаете, есть книга, а теперь и фильм «Воспламеняющая взглядом»—о попытках военного применения пирокинеза. Ужасные эксперименты властей, о которых там рассказано, действительно имели место в той или иной форме. В 50-х годах наши военные скормили группе американцев ЛСД (сильнодействующий психотропный препарат.— В. С.), не сказав им об этом,— просто чтобы посмотреть, что получится. Один сошел с ума и бросился с небоскреба...
— «Литературная газета» опубликовала ваш рассказ, где игрушечные солдатики устраивают не совсем игрушечный ядерный взрыв в квартире. Откуда у вас эта идея?
— О, «Поле боя»! Это из комиксов. Видели наши комиксы — книжки в картинках? Там на последней странице печатают объявления: за столько-то долларов вам пришлют набор пластмассовых солдатиков. Позднее я подумал: а что если бы они оказались живыми? В рассказе есть одна мысль, имеющая отношение к сегодняшней политике. Чтобы уничтожить противника, надо выставить его злодеем. Тогда это вроде бы не предосудительное деяние, а благо—людям помогли отделаться от какой-то гадости. Понимаете?
— На рынке полно игрушек, развивающих склонность к насилию. Честно говоря, от насилия душно и в иных ваших книгах.
— Что до игрушек, то в американских магазинах они куда более миролюбивы, чем, скажем, в Англии, Франции... А вообще отвечу вам вот что. Мне 36 лет. Как у нас говорят, послевоенное дитя, единичка в «буме деторождаемости». Нас целое поколение. Пока я рос, формировался как личность, меня непрерывно купали в море насилия. Насилие в военных кинокартинах. Насилие в вестернах. Насилие в «ящике»— телевизионные сериалы о гангстерах, о частных сыщиках. Стреляют в каждого. Кругом кровь, кровь, кровь...
Даже новости на экране были ужасны. Тогда, в конце пятидесятых, я просыпался каждое утро с леденящей мыслью: еще немного — и конец света!
— Вы говорите о «холодной войне»?
— О ней, о «холодной». Но в шестидесятых — начале семидесятых те, кто был вскормлен насилием, бросились в другую сторону. Возникло «поколение любви», пошли «цветочные дети», хиппи... Мы хотели порвать с официальной политикой. Протестовали против войны во Вьетнаме.
— Реакция на насилие?
— Именно. Мне кажется, это ставит под вопрос теорию, будто жестокость массовой культуры обязательно порождает жестокую молодежь.
— Узнаете «холодную войну» в сегодняшней атмосфере Америки?
— Сходство есть. Конечно, есть. Только, кажется мне, сейчас все более широко расползлось и стало более опасным...
Об общественной опасности и предупреждает писатель Стивен Кинг. Дерзко современный, внешне обманчивый, сложный. И, несмотря на свою популярность,— вот ведь парадокс! — Америке неизвестный.
Как я примерял пуленепробиваемый жилет
Однажды воскресным вечером меня занесло в нижний Манхэттен — окраинное захолустье самого шикарного района Нью-Йорка.
До начала спектакля в маленьком политическом театре оставалось полчаса, и я решил обойти квартал. Нет, эти уличные сценки не для глянцевых открыток. Около мусорных мешков топчется бездомный. Вспарывает мешки вилкой, жадно выгребает картофельные очистки. Пальцем освидетельствует каждую пустую консервную банку — нет ли на дне капли масла. Лизнул палец: нет, не то...
Рядом у стены примостилась еще фигура, под натянутым на лоб шерстяным носком не видно глаз. Суетливо, словно наперегонки, мечутся руки. Они листают какие-то прошлогодние журналы, вырывают оттуда картинки, складывают их в стопки, потом рассыпают эти стопки, рвут свои пожелтевшие бумажные сокровища на части. Недвижимый, будто замерзший человек — и живые, лихорадочные руки.
Финансирование психиатрических лечебниц Нью-Йорка урезано. Десятки тысяч пациентов получили последний совет врача: «Иди на все четыре стороны». Но разве далеко уйдешь? Телесеть Эн-би-си начала было даже передавать многосерийный репортаж «Сумасшедший дом на мостовой».
Здесь, на углу Второй авеню и Четвертой улицы,— одна из таких бесчисленных «больничных палат» без стен и крыши.
Захожу в продуктовую лавку. Как отличается это хранилище всего зачерствевшего, обветренного, неизвестно когда испеченного от дворцов съестного в центральном Манхэттене. Там изящные дамы катят впереди себя тележки со снедью, увенчанные какой-нибудь свежекопченой стерлядью.
Здесь, в этой лавке, тележек нет. У покупателей нет даже продуктовых сумок. Каждый берет самую малость. Коробок с бульонными кубиками. Баночку сгущенного варева. Разведешь в кипятке и получится, как уверяет этикетка, «ароматный, в высшей степени калорийный суп, не уступающий по вкусовым качествам дорогостоящим продуктам».
В той же степени картон не уступает по вкусовым качествам бифштексу.
Отрешенные, выбеленные голубым неоном лица. Потухшие глаза. Звон мелочи вместо шуршания банкнот. Это рабочий, а, точнее, видимо, безработный Нью-Йорк. Для него все небоскребы обращены окнами в другую сторону. Для него шикарные «кадиллаки» с затемненными стеклами остаются транспортом инопланетян, неизвестно как оказавшихся в этом безрадостном, полуголодном мире.
У выхода из лавки меня обступили трое молодых оборванных парней.
— Нет ли лишней десятки-другой? — медленно, как-то даже торжественно, словно объявляя артиста на концерте, произнес один из них.
Это было то самое. Газеты, телепередачи, полицейские инструкции, которые администрация дома подсовывает жильцам под дверь, не первый месяц готовили меня к этому случаю, именуемому английским словом «маггинг». Приставание с целью изъятия денег. Проще говоря, ограбление.
Советы пронеслись в голове резвым табуном. Ни в коем случае нельзя сопротивляться—убьют. Нельзя дать меньше денег, чем требуют,— убьют от разочарования. Нельзя совершать быстрые движения, лезть в нагрудный карман, где американцы часто носят револьвер,—убьют из опасения, что ты убьешь их.
Естественно, крупные суммы, часы, банковские кредитные карточки умный человек, которому приспичило выйти затемно на улицы Нью-Йорка, должен был оставить дома.
Я оставил. Я вел себя очень умно. Мы расстались полюбовно. Они — без разочарования, я — без двадцати долларов.
Мне повезло. У примерно таких же ситуаций бывает другой исход...
— Убивают! Режут ножом! Истекаю кровью! Помогите, люди, помогите!..
Высокий женский голос рвал ночную тьму. Семиэтажный дом на перекрестке Вест-Энд-авеню и Сто пятой улицы в ответ угрюмо молчал. Было не так уж поздно. Но окно распахнулось не сразу.
— Где тебя убивают? — с любопытством осведомился кто-то.— Где режут-то?
— Здесь, здесь! На крыше! Дом 929! 929!..
Надрывный женский крик оборвался. А вскоре — и жизнь Каролин Айзенберг, 23-летней нью-йоркской актрисы.
Или, если хотите, официантки. Каролин окончила Гарвардский университет, актерские курсы, неплохо сыграла несколько ролей на провинциальных сценах. В театральных кругах ей прочили радужное будущее.
Но оно, будущее, не приходило. С девяти до четырех Каролин подавала пиццу и кока-колу в дешевом ресторанчике. Тот роковой день был полон надежд. Сразу после конца смены, прямо в ресторанной униформе она отправилась в актерское агентство, где набирали новичков на роли в телевизионных сериалах.
Ах, как мечтала Каролин попасть в такую постановку с бесконечными продолжениями! Скажем, в сериал телесети Эн-би-си, который называется «Ви». Космические оккупанты молотят там землян в каких-то электронных мясорубках, а земляне организуют сопротивление и уничтожают пришельцев. Тоже с хрустом костей, с фонтанами крови. Популярнейшая серия!
И понятно почему — в среднем 49 сцен насилия на каждый час экранного времени.
Или многосерийный фильм «Команда А» той же Эн-би-си. Это о трех живописных парнях и одновременно наемниках. Стреляют, душат, проламывают головы там, куда не добраться ни разведке, ни пентагоновским десантникам. Патриотические граждане на службе отечества.
И как служат! 46 сцен насилия в час.
На худой конец Каролин не прочь была бы сыграть хотя бы проходную рольку в сериале Си-би-эс «Майк Хэммер». Это о сыщике-пьянчужке, рожденном фантазией модного автора боевиков Микки Спиллейна. Сегодня Хэммер каждую неделю дробит челюсти и простреливает черепа на экране ТВ. 44 сцены насилия в час...
Увы, в актерском агентстве Каролин объяснили то, что она давно уже знала. В такие популярные передачи исполнителей так просто, с улицы, не берут. Высокий уровень насилия определяет высокий уровень ответственности перед зрителем. Если, скажем, по ходу сюжета полоснут ножом, будешь агонизировать, а получится недостоверно? Тут нужны крупные актерские дарования.
Но постойте-ка, остановил режиссер направившуюся было к двери Каролин. Оказалось, что по типажу она подходит для телевизионной пьесы под названием «Вышла замуж сегодня, сгорела дотла завтра». Как, устроит? Юная актриса с восторгом согласилась.
И тут же позвонила из автомата жениху: «Знаешь, взяли! Называется «Вышла замуж сегодня, сгорела дотла завтра».
Каролин Айзенберг не вышла замуж. В тот же день она изошла кровью на крыше собственного дома, пока жилец, откликнувшийся на крики, допытывался во тьме, где именно ее убивают. Молоденький бандит настиг Каролин в лифте, угрожая ножом, загнал на чердак. Его добыча —12 долларов.
Охает, кручинится сейчас соседка:
— Я же говорила ей, что у нас здесь, в Нью-Йорке,— джунгли...
Джунгли и в Чикаго. За год молодежные банды застрелили и зарезали там 130 душ в возрасте от 11 до 20 лет.
Но в нью-йоркских джунглях встречи со смертью, похоже, происходят регулярнее. Сразу же после нападения на Каролин паренек по имени Бен Уилсон нашел на полу продовольственной лавки долларовую бумажку. Не успел выйти на улицу, как эти деньги у него отняли. А самого застрелили— на всякий случай.
На человеческую жизнь здесь частенько большая распродажа. Красная цена ей — 1 доллар.
...Листаю любопытную газетку «Дейли ньюз». Что еще примечательного стряслось в обычный день недели?
Заголовок: «Ограблен — его самый темный час». Двадцатишестилетний Вернон Вергара в свое время попал в автомобильную аварию и потерял правый глаз. В последние месяцы он жил в Нью-Йорке, подрабатывая диктором на радиостанции для слепых. В среду двое остановили его на углу авеню «Б» и Шестой улицы. Забрали 50 долларов. И на всякий случай проткнули ему левый глаз.
Мнение врача Лоуренса Пейпа:
«Грабители, вероятно, жили где-то по соседству и знали, что Вернон Вергара страдает недостатком зрения. Поэтому-то они и выбрали в качестве мишени его здоровый глаз...»
Логично рассуждает доктор. Если бы у Вернона Вергара не было бы, скажем, одной ноги, то ему, по этой логике, наверняка оторвали бы вторую. Красиво также обыграла случай газета: «Его самый темный час». Каково!
К сожалению, американцев уже не впечатляет ни блестящий криминальный стиль прессы, ни обнаруженная медициной симметрия бандитизма. Америка скорчилась и затихла в парализующем, липком страхе перед преступностью.
И есть отчего. Как выяснил Институт Гэллапа, ежегодно каждая четвертая семья в США становится жертвой преступления в той или иной форме. Каждый двадцатый американец сообщает в полицию, что его либо ограбили, либо изувечили, либо учинили над ним какое-то иное насилие.
Примерно 14 тысяч человек пожаловаться уже никому не смогли — их застрелили. В эту цифру не вошли убитые без применения огнестрельного оружия. Это другая многозначная статистика.
...Он помнит: пакет был как пакет. Картонный, с апельсиновым соком. От дыхания магазинного холодильника на его боках выступили мелкие жемчужинки росы. А в тот день во Флориде стояла такая жара!
Через минуту полицейский Гарри Брайнинг потерял сознание. Анализ показал присутствие в апельсиновом соке отравы для насекомых.
В Америке, где смысл бытия неясен для миллионов обойденных судьбой, а одиночество восстанавливает человека против всего мира, в этой Америке больше, чем где-либо на Западе, сейчас вошел в моду новый феномен криминалистики.
Тотальное преступление мизантропа.
Варварское покушение на всех.
В начале октября 1982-го и позднее, в 1986 году, в Чикаго и других городах страны погибло около десяти американцев. Они приняли болеутоляющее лекарство тайленол. В действительности в капсулах оказалось по 65 миллиграммов цианистого калия. После многомесячных розысков и проверки 16 702 подозреваемых руководитель следствия генеральный прокурор штата Иллинойс Т. Фанер на след так и не напал.
Однако он не верит, будто это была месть фирмы, конкурирующей с производителями тайленола. По ходу сыска Фанер сделал поразившее его открытие:
«Есть, оказывается, несметная рать людей, которых распирает немыслимая, всепоглощающая ненависть к своим ближним».
Предохранительный клапан этой ненависти все чаще прорывает. В городке Гранд-Джанкшн, штат Колорадо, в больницу в тяжелом состоянии доставили 38-летнего Лэрри Тингли. Он воспользовался глазными каплями визин. В пузырьке оказалась серная кислота.
В городе Миннеаполисе мальчик Марлон Бэрроу, 14 лет, выпил пакет шоколадного молока Туда был подмешан каустик.
Крысиный яд в ампулах анацина. Бритвенные лезвия в шоколадных батончиках. Иголки в сосисках. Сотни случаев такого рода «немотивированных преступлений против всех», не говоря уже об истории с тайленолом.
Власти вроде бы ведут борьбу. Все нерецептурные лекарства уже продаются в США в особой, исключающей тайное вскрытие упаковке. В нескольких штатах отменили праздник Хэллоуин, когда дети обходят соседей, выпрашивая сладости.
Но нельзя отменить причину этих страшных преступлений. Ведь ее вроде бы нет.
Или есть? Мнение Артура Шанемана, ведущего специалиста в области клинической психологии: «Эти люди часто страдают плохо сдерживаемой импульсивностью действий, спусковым крючком для которых служит... протест против несправедливости».
А Хелен Моррисон, крупнейший авторитет по изучению массовых убийств, сформулировала побудительный мотив преступников так:
«Лучше быть нужным полиции, чем быть ненужным никому».
Преступность набирает здесь темп фордовского конвейера. Убийство — каждые 23 минуты, изнасилование — каждые 6, ограбление — каждые 55 секунд, квартирный взлом — каждые 5. Простите, кто-звонит в дверь...
В глазок было видно незнакомое лицо. Я не открыл. Как свидетельствует недавно опубликованный доклад «Страх перед преступностью», таким образом поступили бы девять из десятерых американцев. Эти цифры остаются некой отвлеченной арифметикой только до тех пор, пока не осознаешь, что криминальный бум коренным образом меняет здесь поведение людей, их привычки.
Появился даже особый термин — «осадное умонастроение».
— Жизнь очень изменилась. Никакого сравнения с моим детством,— сетует Тереза Томпсон, 34-летняя жительница Лос-Анджелеса.— Раньше моя семья никогда не тревожилась о своей безопасности. Даже во время расовых мятежей в Лос-Анджелесе в 1965-м. А сейчас соседи держат двери закрытыми, окна зашторенными. Очень сомневаюсь, что они высунутся из дома, заслышав мои крики о помощи...
Не высунутся. 31 процент американцев, живущих в крупных городах, боятся даже погулять днем около дома, свидетельствует журнал «Ридерс дайджест». 46 процентов, выходя из дома, оставляют включенными радио и свет. 11 процентов носят при себе оружие, свистки или баллоны с дурманящим газом мгновенного действия. 16 процентов признались, что страх не покидает их даже ночью в собственной квартире.
Жизнь в осаде. Существование под добровольным домашним арестом за тремя замками и семью накидными цепочками.
Впрочем, стремиться к радостям безопасности не запрещено. И тут уж кто во что горазд.
Я зашел в магазин на углу Вест-Бродвея и улицы Брум и попросил показать мне осенний плащ.
— Какой калибр?—деловито спросил продавец.
Хотя я знал, куда явился, мне показалось, что речь идет все-таки о размере:
— Сорок второй (соответствует советскому 52-му).
— Калибр какой? — раздраженно повторил продавец.— Каков калибр пули, от которой вы хотели бы укрыться?
Плащ стоил неслыханную сумму и гнул своей тяжестью к земле. Магазин «Джон Джолчин протектив фэшнз» торгует одеждой, которую в буквальном смысле пуля не берет. Пуленепробиваемые жилеты известны давно. Но Джон Джолчин выставил на продажу куда более широкий ассортимент бронированных фасонов: куртки, пальто, смокинги, даже дамские бальные платья.
Все пуленепробиваемое. Все с вмонтированными в специальные кармашки стальными пластинками.
Пластинок покупаешь только один набор. Их можно переставлять из наряда в наряд. Очень удобно. Правда, надо вдумчиво подойти к подбору толщины стали. Тут и возникает вопрос о калибре.
Когда входишь в магазин, тебе вручают листок, где указана зависимость между типом пластин и оружием, из какого, как предполагается, в тебя будут стрелять. Пистолет? Карабин? Автомат? Дороже остальных — пластины №30, они останавливают боезаряды до 9 миллиметров, выпущенные из автоматического оружия с дулом длиной до 23 сантиметров. Я не знаток, но, по-моему, неплохо.
Впопыхах можно предположить, что услугами фирмы Джолчина пользуются нефтяные шейхи, семья Рокфеллеров и прочие лакомые объекты терроризма. Ничего подобного. В том-то и состоит типичная черта здешнего образа жизни, что страх проник до костей самого обычного, рядового американца.
— Если не секрет, кем был по профессии последний покупатель? — поинтересовался я.
— Учитель. К нам идут все, кто боится за свою жизнь...
Боится вся Америка. И вся Америка размышляет над тем, почему города страны превратились в стрельбища
Ответы разные. Многие добросовестные социологи справедливо сетуют на свободную продажу оружия и экономический спад, толкающий отчаявшихся за черту нравственности. Особые организации воюют против влияния насилия на экране. Они подсчитывают, сколько раз льется кровь на протяжении полнометражного фильма. Получается в среднем один труп каждые десять минут, сцена насилия — каждые пять.
Все эти рассуждения весьма научны. Но один решающий фактор, мне кажется, упущен. Уважаемых социологов и психиатров почему-то не настораживает явление, которое можно назвать коронацией насилия в качестве государственной политики.
На телеэкране — американский концентрационный лагерь в Гренаде. Сторожевые вышки. Собаки. Туннели для прохода арестованных, опутанные колючей проволокой. Сюда брошены более тысячи гренадцев и кубинских строителей. Среди арестованных — члены законного правительства Мориса Бишопа, в частности заместитель премьера и министр юстиции.
Идут словно выстриженные из нацистской хроники кадры. Американские оккупанты связывают руки арестованным за спиной пластиковым жгутом. Толкают людей прикладами в спину.
Плывет вереница добротно сколоченных будок, похожих на высокие собачьи конуры. Лаз, как в конуру, у самой земли. Для вентиляции просверлены дырки. Там и в дождь, и в жару держат пленников, пока не подойдет их очередь идти на допрос к офицеру ЦРУ.
Все это провозглашено великой победой. Прославляется как военный триумф администрации.
На днях подросток Чарльз Казиано случайно наступил на ногу главарю нью-йоркской молодежной банды «Дикие мальчики» Луису Росаду. Нога была обута в белый спортивный башмак. На нем остался грязный след. Росад тут же застрелил Казиано.
А что тут такого? Ведь Гренада даже и не думала наступать на американский сапог...
Пока святоши молятся
Помню, как в первый день нью-йоркского новоселья я обыскался: нет нигде мусоропровода, да и только! Спросил у проходившей мимо соседки, типичной американской старушки с седыми букольками, крашенными чем-то вроде фиолетовых чернил: где? Та указала на дверь.
Заглянул туда: ничего похожего. Окликнул букольки: «Мадам, будьте любезны, зайдите сюда, покажите, где жеэтот самый мусоропровод».
Старушка в ужасе метнулась от меня прочь. Защелкали, заскрежетали замки ее квартиры, зазвенели цепи...
— Что я, с ума сошла! — вспомнила соседка этот эпизод, когда подружилась с моей женой.— Войти с незнакомцем в замкнутое помещение! Тут в лифт-то с лифтером входишь — смотришь: лифтер ли это? Вы забыли, в каком городе живете...
Она подарила нам свой экземпляр брошюрки «Ваша безопасность. Советы полицейского комиссара Нью-Йорка». Книжка была изрядно потрепана — ее, видать, штудировали вдоль и поперек.
Советы там, действительно, начинались с лифта.
«Прежде чем войти в лифт, посмотрите в зеркало — оно находится в углу на уровне потолка,— чтобы убедиться, есть ли кто-нибудь в кабине. Затем решайте, ехать или нет».
Предположим, осторожный американец предпочел лифту прогулку. Инструкция предупреждает:
«Не гуляйте возле дома или места работы. Если вы являетесь мишенью похитителей или убийц, ваша привычка облегчит им задачу. Передвигаясь пешком, будьте настороже и постоянно следите за происходящим вокруг...»
Осторожный решил не искушать судьбу, а отправился куда надо на автомобиле. Полицейского комиссара Нью-Йорка это не утешило:
«Когда в машине находятся пассажиры, окна должны быть закрыты, двери заперты на замок. Если окно необходимо открыть, откройте его лишь на несколько сантиметров. Преступники обычно приближаются к машине с левой стороны, чтобы сразу напасть на водителя, поэтому придерживайтесь середины дороги...»
Еще одна рекомендация.
«Не останавливайтесь для оказания помощи другим водителям или пешеходам независимо от обстоятельств».
Автомобильный раздел был для меня тогда лишь теорией. В первые дни, пока сдавал на американские водительские права, я не пользовался машиной и ходил на телеграф пешком через знаменитый Сентрал-парк.
Напишешь статью — и через парк. Приятно. Кончишь попозднее — и через парк. Тоже вроде бы ничего. Конечно, согласно инструкции, я был настороже и постоянно следил за происходящим вокруг.
Но ничего такого особенного не происходило. Вот идет, например, мужчина с длинной битой для бейсбола. Вот проскользнула стороной девушка — тоже почему-то с бейсбольной дубинкой. Мода, что ли, у них такая?
Утром раскрыл «Нью-Йорк таймс» и будто пальцы сунул в электророзетку. «Убийство в Сентрал-парке—десятое за этот год. Неопознанный мужчина в тренировочном костюме был найден мертвым вчера утром с колотой раной в передней части шеи...»
Указывался район парка. Да ведь это там я вчера проходил!
Вот только когда вплотную приблизилась, обрела реальность, задышала мне в затылок криминальная статистика Америки. Только в одном Нью-Йорке — около трехсот преступлений с применением насилия каждый божий день! Нужно побыть в шкуре ньюйоркца, чтобы почувствовать этот безликий, серый, облепивший тебя со всех сторон, как несмываемый студень, страх.
Не о погоде в первую голову думает американец, когда выходит на улицу. Где придется идти? Освещенными или темными переулками? Надо ли будет спускаться в «сабвей» — эту заплеванную преисподнюю, где три тысячи постоянно дежурящих полицейских с сотнями служебных собак не смогли предотвратить в тот год 6629 ограблений, 36 изнасилований, 13 убийств?
Не погода, а безопасность—тривиальная тема здешних бесед. Какие у вас замки? Нет, эти дрянь, ослабляют дверь. Какая фирма устанавливала у вас сигнальную систему? Рекомендую вот этот одурманивающий аэрозоль—легче носить в дамской сумочке...
Но распылители отравы плохо помогают там, где отравлена сама общественная нравственность.
...Было воскресенье. Мощенные камнем улицы прибрежного городка Нью-Бедфорд, штат Массачусетс, выглядели не так пустынно, как в будни. Из 98 тысяч жителей всегда найдется кто-то, кого потянет в воскресный вечер из дома.
Скажем, в бар «Большой Дэн». Приветливо подмигивает неоновая вывеска, выводит блюзовые ноты «джюк-бокс», музыкальный автомат. Приятное местечко. Вроде городского клуба, где многие знают друг друга, а регулярное появление там считается признаком хорошего тона.
Около девяти часов вечера двадцатидвухлетняя Н. зашла в «Большой Дэн» купить пачку сигарет. И вышла оттуда нескоро.
На улице все было, как обычно. Продавал жареные сосиски лотошник, торговал крадеными сумками какой-то начинающий бизнесмен. В баре в общем тоже все было, как обычно. Гудел зал, стучали пивные кружки. Многие почтенные, знающие себе цену горожане сочли ниже своего достоинства обратить внимание на «маленькое происшествие», случайно совпавшее по времени с их ритуальным визитом в обитель веселой жизни.
А происходило вот что. Девушку привязали к стойке бара, жгли сигаретами и по очереди насиловали в течение трех часов.
Под потолком «Большого Дэна», как и положено в приличных заведениях, работал телевизор. На переливающемся безукоризненными красками экране шел конец XX века. Там готовили к запуску очередной «Шаттл»—космический корабль, возвращающийся после полета на Землю. Президент говорил об упадке морали в коммунистических странах, ставших средоточием греха, и ее расцвете в Америке.
А здесь, в баре, на глазах у всех происходила дикая сцена, но посетители вели себя как манекены. Никто не решился остановить преступников. Никто не вызвал полицию. «А почему это должно касаться меня?» — ответил потом один из посетителей корреспонденту «Нью-Бедфорд стэндарт-таймс».
За стойкой невозмутимо священнодействовал Карлос Мачадо, хозяин бара. Тряс в миксере коктейли, мыл стаканы. Почему не позвонил в полицию? Было как-то неудобно отлучиться, кто же обслужит клиентов.
Впрочем, сказал одному, чтобы позвонил. Тот подошел к автомату, висевшему тут же на стенке, набрал номер полиции, но вроде бы попал не туда. Второй раз звонить показалось излишней суетой...
Случай в «Большом Дэне» потряс город. Вечером улицы осветились мерцающим пламенем свечей. Трехтысячная демонстрация молча прошла мимо муниципалитета с плакатами: «Насилие — не спорт и не зрелище!». К кому обращались эти негодующие души? Кого хотели образумить, пробудить от духовного столбняка? Похоже, самих себя.
Размышляя над случившимся, социологи и психиатры связывают атмосферу первобытной дикости, обуявшей Нью-Бедфорд, с его экономическим упадком. Некогда оживленный центр китобойного промысла и текстильной промышленности, город сегодня медленно погружается в состояние оцепенения. Что нет спроса на китовый жир—это понятно. Но одновременно останавливаются ткацкие станки, замирают швейные автоматы на фабриках верхней одежды. В Нью-Бедфорде — самый высокий процент безработицы по штату Массачусетс. Словно кто-то навел на прибрежный городок линзу, которая сфокусировала все экономические невзгоды страны.
Послушаем, что говорит Джон Баллард, старожил, чьи предки еще 200 лет назад выходили здесь на китов с деревянными гарпунами:
— Тяжелые времена давят и гнут ньюбедфордцев уже два поколения. Духовные запросы, мораль — все это соскальзывает вниз. Людям наплевать на город, на самих себя. Отчуждение, одиночество заменили человеческое общение. А то, что произошло? Повод воскликнуть. «О, боже, до чего мы дошли...»
Повод также задуматься о той нравственной цене, которую платит Америка за разрушительные последствия «рейганомики», за разбухший военный бюджет. Исследования показывают: лишение американцев работы и крова—это бомба замедленного действия, которая позднее взрывается болезнями, психическими сдвигами, разгулом преступности. Мысли безработного далеки от высоких материй.
«Тревога по поводу денег, неуверенность в будущем порождают разлад в семье, алкоголизм, жестокость по отношению к детям, сексуальные отклонения»,— считает Чарльз Брэмбилла, директор одной из клиник в графстве Монтгомери.
У него есть основания для таких выводов.
Число пациентов клиники возросло за последний год на 700 человек. Особенно велик приток в психиатрическое отделение и в так называемый «Центр для избитых жен».
Еще более пугающе выглядят подсчеты Харви Бреннера, демографа из университета Джона Хопкинса. Он доказывает, что рост безработицы всего на 1 процент прямо связан с такими мрачными цифрами: 51 570 случаев преждевременной смерти в результате стресса, увеличение числа пациентов психиатрических лечебниц на 3,4 процента, самоубийств — на 4,1 процента, убийств — на 5,7 процента, заключенных в тюрьмах — на 4 процента.
Случай в «Большом Дэне» стал темой для телевизионной дискуссии. Корреспондент спросил местную журналистку Хелен Гудмэн, что потрясло ее в этой истории больше всего.
Ее ответ:
— Когда Н. вернулась через час с полицией, насильники все еще были в баре. Они и не думали скрываться. Им в голову не пришло, что произошло нечто предосудительное. Ужасное стало у нас социально приемлемым...
Перенесемся теперь из штата Массачусетс на Западное побережье. В начале 1984 года тут тоже всплыла всеамериканская сенсация.
...Только что кролик прыгал на столе белым пушистым комочком. В следующую секунду кухонный секач отрубил ему лапу. У живого! На глазах у ребенка!
— Скоро твой черед, детка, потом—твоей мамы. Останетесь без лапок...
Это происходило в дошкольном центре города Манхэттен-Бич, штат Калифорния. По-нашему, в детском саду.
Отобрав несколько малолетних жертв, дяди-педагоги и тети-воспитатели потрошили в их присутствии живых птичек, калечили домашних зверюшек, пока в бездонных детских глазах не оставалось ничего, кроме вгоняющего в столбняк ужаса. Тогда с ребенком можно было делать, что угодно.
А делали, говоря по-здешнему, секс. Детей растлевали. Их поставляли за плату частным клиентам. Клиенты обменивались живым товаром между собой—тоже за плату. А главное, в калифорнийском детском садике работала киностудия, снимавшая порнографические фильмы, естественно, с дошкольным уклоном.
Это продолжалось последние десять лет.
Жертвы были в возрасте от 2 до 10 лет.
По первым, на скорую руку подсчетам, 125 мальчиков и девочек были пропущены сквозь цеха этого секс-комбината.
Так бывает: ноет, болит нарыв, но некогда им заняться, да и болезнь не из благородных, а потом — раз! — и вскрылся. Скандал в Манхэттен-Бич стал таким прободением. Почти со вздохом облегчения, уже ничего не стыдясь, называя страшные вещи своими страшными именами, Америка вдруг заголосила о разросшейся до национальных масштабов позорной беде.
О растлении детей.
По данным Американской академии педиатрии, каждый пятый ребенок в США становится жертвой сексуального пре-
ступления. Более полутора миллионов американцев в возрасте до 16 лет вовлечены в проституцию, так или иначе причастны к бизнесу на детской порнографии.
С каждым годом эта грязная цифирь лезет вверх. Д-р Роланд Саммит, психиатр Лос-Анджелесского университета, определяет проблему так: «В стране возникла целая прослойка населения. Это хищники, охотники на детство. Они готовы на все, чтобы запустить когти в наших сыновей и дочерей...»
Причем не ночью. Уже среди бела дня.
В трех городах страны с нагловатой солидностью вылезли наружу организации, требующие узаконить... секс с детьми А чего, собственно, стесняться? Демократия наша, сами знаете, щедра на плюрализм. Если не на политический, то уж на сексуальный точно
У этих мерзких клубов броские вывески, звонкие названия. В районе Беверли-хилс в Голливуде обосновалось некое «Общество Рене Гайона». В Бостоне радушно распахнула двери «Североамериканская ассоциация любви между мужчиной и мальчиком». А в Сан-Диего приглашают стать членом пока узкого, но все более респектабельного «Круга детской сексуальности».
Добропорядочные растлители публично распинаются в любви к детишкам дошкольного возраста, в желании нести им «нежность и тепло». Попутно покупают прессу и конгрессменов, чтобы те проталкивали тошнотворные законопроекты, близко совпадающие по тексту с учебником судебной психиатрии.
Тепло? Нежность?
Каждый год в Соединенных Штатах пропадает 500 тысяч детей. Четыре пятых из них исчезают навсегда. Половину остальных находят убитыми. Отсняв свои жертвы на видео, пропустив их по кругу клиентов, изжевав до конца, секс-бизнес выплевывает тела в темные подворотни.
А другая половина? Где пока оставшиеся в живых?
...Я шагаю за полночь по так называемому «Миннесота стрип». Такой улицы нет на карте. Так прозвали отрезок мостовой недалеко от Таймс-сквер, в самом центре Нью-Йорка.
В подъездах, у стен светятся белокурые детские головки. Рядом маячат типы в надвинутых на глаза кепках с длинными козырьками.
— Сюда, мистер!
— У нас «цыплята» моложе, мистер!
И шепотком — цена. Это городской рынок детского тела. Мимо проплывает сине-белая машина полицейского патруля. Ее хвостовые огни исчезают за поворотом. Здесь все в порядке. Здесь ничего особенно противозаконного не творится...
Что происходит с тобой, Америка?!
Перенасыщенное коммерческой эксплуатацией секса общество начинает бить кухонным секачом по своим детям. В мире круглосуточных телевизионных порнопрограмм, помеченных тремя крестами фильмов, заливающего семейный очаг отчуждения — в этом мире детство становится товаром, который можно рубить на куски и продавать из-под полы в розницу.
Для капитала нет ничего святого.
Есть лишь святоши. Не один год президент Рейган носился с законопроектом, который бы разрешил молитвы в школах.
Упаси от такого детства, господи!

13 Соединенные Штаты Теократии
...Мрачные тени средневековья встают и пытаются положить конец всему, что придает значение Америке,
Айзек Азимов, американский писатель
Святой террор
Грохнуло после полуночи. Хирургический центр на юго-востоке Вашингтона осел в клубах искр и пыли. В домах поблизости вылетели сотни две стекол.
Полиция — сама деловитость. Пощупали, понюхали закопченные кирпичи. Да, взрывчатка та же самая, замешана на домашних химикалиях. Словесный портрет преступника похож на прежние описания. Знакомый почерк.
За последние месяцы 1985 года его, этот почерк, успели выучить назубок. По всей Америке, от Аляски до Флориды, взлетают в воздух, горят, тонут под рукотворными потопами медицинские учреждения, где производятся аборты. Тридцать с лишним взрывов!
Кое-где на уцелевшем столбе, на соседней стене вандалы оставляют свой автограф — «Армия бога». Рука уверенная, неторопливая.
Клерикальные, особенно католические круги никогда не скрывали своего недовольства знаменитым решением Верховного суда США, которое еще в 1970 году подтвердило право американок обращаться в клиники с просьбой об аборте и право клиник делать такие операции. Но до последнего времени это было лишь ворчанием с амвона. Теперь же «воины бога» подкладывают под закон динамит.
Проблема не такая уж мелкая, как может показаться на первый взгляд. С кличем «Защитим нерожденных!» группы религиозных фанатиков сделали жизнь сотен тысяч американцев невыносимой. Врачей и пациенток выслеживают, их детей похищают, по ночам трезвонит телефон: «Сделаешь аборт, зарежем, застрелим!»
На уютной семейной вечеринке у американских друзей я спросил Пита Сигала, молодого специалиста по компьютерам, что он обо всем этом думает. Тот прижал ладони к вискам:
— Страшно! Я не женщина, помышляющая об аборте, но и у меня волосы встают дыбом! К чему идем? Где хранители закона? Слышали, что сказал Уильям Уэбстер, шеф ФБР? Бюро, мол, не рассматривает взрывы клиник как террор, поскольку насилие не преследует здесь «политические и социальные цели». В этом-то и трюк! Политика прикидывается у нас религией. Зажим прав личности, ее свобод— истовым служением господу. А поощряется это все оттуда...
Пит показал пальцем куда-то вверх. Встал, пошел на кухню долить из термоса кофе и уже оттуда крикнул:
— Не бога я имею в виду. Рейгана! Впрочем, у нас это, кажется, сегодня одно и то же...
Президент действительно ниспослал единомышленникам динамитчиков свое личное благословение. Когда демонстрация «За жизнь» — так они себя называют—приблизилась к Белому дому, внезапно забухало громкоговорящее устройство. Рейган вещал по телефону:
— Я охвачен великим чувством солидарности с вами. Горд выступить вместе с вами за право на жизнь...
Президент озабочен судьбой эмбрионов. А как насчет стремительного умножения числа отторгнутых от работы, коротающих ночи в вокзальных туалетах, втыкающих себе в вену шприц с раствором героина?
Та Америка, что еще не угорела от официальной набожности, не очень-то верит в жизнелюбие верхов. За анафемой абортам многим видится нечто более серьезное, поистине зловещее.
Уоррена Герна, знаменитого терапевта, интересует и здоровье страны. Его мнение:
«Подмигивая тем, кто взрывает клиники, правительство поощряет атмосферу насилия и беззакония, в которой не остается места для справедливости и уважения к гражданским правам».
На днях открыл почтовый ящик — там письмо от Кэтрин Хэпберн. Блистательной актрисе американского кино тоже не по себе от ночной канонады. Ее тоже одолевают тревожные мысли, обжигающие душу сравнения:
«Преследование пациентов и персонала клиник во многом схоже с преследованием борцов за гражданские права в 60-х годах. Сегодня, как и тогда, фанатики применяют тактику беззакония, чтобы попытаться отлучить граждан от их конституционных прав».
Крестом, как топором,— по конституции. Религия — как отпущение грехов внутренней политике администрации, совсем не по-христиански обирающей голь в пользу богатеев. Подзуживание верующих Америки на расправу с «нечестив-цами»-коммунистами, поскольку сам господь того, мол, пожелал, а наместник его в Белом доме тот небесный наказ чутко уловил.
Вот из чего складывается новый, необъятный по своим масштабам феномен в идеологической жизни Соединенных Штатов. Вот что прогрессивная социология окрестила «святым террором».
Новый? Но разве теория о богоизбранности американцев издавна не прикрывала претензии администраций США на то, чтобы учить жить, а в случае ослушания и карать другие народы?
Разве ку-клукс-клан не вешал негров под ритмы «спиричуэлс» — негритянских же церковных песнопений?
Все так. Но никогда еще высшая государственная власть в Америке не настаивала с таким серьезным лицом на своем божественном происхождении.
Полистаем книжку журналиста Боба Слоссера «Рейган изнутри». Это неофициальная биография президента, изданная к выборам 1984 года. Слоссер благоговейно, в жанре жития святого описывает там историю, случившуюся якобы еще в 1970 году.
Душным калифорнийским вечером Рейган, тогда еще губернатор, и его гости — эстрадный певец Пэт Бун с группкой евангелистов решили помолиться. Встали в круг, взялись за руки. Джорджу Отису, ведущему религиозных радиопрограмм, выпала честь держать левую длань президента. Отис начал было читать молитву, как вдруг впал в транс и сбился на прорицания. Тут всем стало ясно, что его устами заговорил сам Всевышний.
А вещал он, обращаясь к Рейгану, вот что: «Если ты истово последуешь по стопам моим, будешь жить в доме № 1600 по Пенсильвания-авеню».
Как известно, это Белый дом.
Отис по сей день не может опомниться:
— Интересно, что господь-то дал точный адрес!
Еще более подробные инструкции с небес сообщили Пэту Робертсону, владельцу гигантской религиозной телесети «Крисчен бродкастинг нетуорк». Из записи его программы, переданной сразу после второй инаугурации президента
— Я молился несколько раз... Бог сказал мне: Рональд Рейган выиграет выборы И я был счастлив, что так оно и вышло. Позднее я опять помолился, и Всевышний поведал, что он благословляет его (президента.— В.С.) и что мы не должны критиковать его...
Вот уже как! Благоверный христианин рискует угодить в ад за политическую критику.
А если палец президента — вообразим себе — вдруг нажмет на ядерную кнопку? Спрос только с господа — ведь это он повелевает президентским перстом.
...Дело было в штате Джорджия Знакомый американец пригласил нас с женой на воскресную проповедь. Когда я сослался было на некоторое теологическое невежество, приятель успокоил, тема доступная. О деве Марии и непорочном зачатии.
Я ждал вкрадчивости, благолепия и пересказа святых писаний. А попал в театр одного актера.
Проповедник быстро скинул пиджак, галстук и остался в рубахе с закатанными рукавами. В правой руке микрофон — как нож для удара. В левой — Библия. И началось!
Плотная невысокая фигура металась по подмосткам огромного стадиона, то припадая к полу, то словно воспаряя в невесомости. Святой отец рычал. Скрежетал зубами, изображая в лицах сатанинские силы. И перемежал эту буффонаду всплесками подлинного, высокого драматизма, от которого по спине бежали мурашки. Хотелось плакать и сопереживать.
О деве Марии было сказано вскользь. Мол, удивительной храбрости была дама, поскольку знала наперед, что в случившееся с ней грамотная публика вряд ли поверит.
— Если бы сегодня ваша соседка вышла из больницы с новорожденным и сказала: «Я обрела дитя непорочным способом», вы бы поверили?—воззвал проповедник к стадиону.
— Не-е-е-т,— слабо выдохнули ряды.
— Тем более тяжко пришлось деве Марии в те смутные времена.
Мои соседи покорно закивали, зашелестели библиями в тисненных золотом переплетах. Приход был из богатых— здесь водился не один миллионер.
Святой отец вдруг перескочил на автобиографию.
— Мальчишкой я был бяка!—взревел он.— Замышлял насилия и преступления! О, сколько во мне было зла! Садист! Изверг! Я убивал животных... Я умертвил пса — бил его об пол, пока тот не сдох! Я сжег кошку на костре!..
Стадион завороженно слушал, изумляясь, с какого дна подняла человека вера. На это пассаж и был рассчитан. Теперь последовало главное, заветное. То, для чего, собственно, и храбрые девы, и бедные кошки были лишь присказкой.
Проповедник, стреляя слюной в прожекторы, обрушился на «советский шантаж», на «орды дьявола под красным флагом».
— Я не могу больше слышать обо всех этих радикалах, либералах, леваках и коммунистах, вылезающих на свет божий! Мы, ваши пастыри, упреждаем: на нас наступает враг! Нас атакуют силы сатанинского коммунизма! Противостоять им! Покончить с ними! Покончить! Покончить!..
Вокруг мигали красные глазки включенных телекамер. Джимми Ли Суогарт, один из самых знаменитых евангелистов страны, дурманил своими антикоммунистическими заклинаниями не только умы тех, кто собрался в воскресенье на стадионе. Его шаманству внимала чуть ли не вся Америка. Гримасничающий лик Суогарта повторялся на миллионах телевизионных экранов в мотелях, барах, парикмахерских.
Бесноватый правый клерикализм и техника конца XX века. Их свадьба привела к возникновению в США ранее невиданного, всемогущего института — электронной церкви.
Американцы уже не ходят в храм божий. Религия вламывается к ним в дом по эфиру, по кабелю.
Структура электронной церкви необъятна. Это 1400 радиостанций, 3500 местных телевизионных станций и систем кабельного ТВ. Еще четыре чисто религиозные телесети бомбардируют Америку со спутников «Сатком-2» и «Вестар», выведенных на стационарную космическую орбиту высотой 23000 миль. Осталось только поставить микрофон перед самим Всевышним.
Каждую неделю на клерикальную волну настраиваются 115 миллионов американцев. Паства эфирных проповедников? Скорее, их банк. Электронная церковь ежегодно доит из своих зрителей и слушателей 500 миллионов долларов — выручку, не облагаемую никакими налогами. Она тут же пускается в деловой оборот. Религиозные радио- и телестанции размножаются со скоростью кроликов.
Этот гигантский транзисторно-лучевой крест не только ворошит душу американца. Он все азартнее вторгается в политику. Святые писания заменяют правительственные меморандумы. Клерикалы берут на себя роль государственных министров.
Соединенные Штаты Америки начинают смахивать на Соединенные Штаты Теократии.
Это не только мое мнение. Послушаем, что говорят социологи Фло Конвей и Джим Сигелмэн в своей монографии под точным и потому пугающим названием — «Святой террор».
«В восьмидесятых годах Америка родила новую форму террора, кампанию страха и запугивания, нацеленную в сердца миллионов. Этот террор нового типа поднимает голову в двух главных сферах американской жизни — религии и политике. В последние несколько лет группа проповедников и политических стратегов начала использовать религию и все то, что для американцев свято, чтобы захватить власть над широкими сферами нашей частной жизни. Это террор, который благоговейно рассуждает о боге и нации, о «традиционных ценностях», об «американской морали» и «иудейско-христианской этике», но имеет мало, а то и ничего общего с религией, как мы ее себе представляем. Это не выражение веры или преданности, не акт патриотизма или любви к Америке. Напротив, это эксплуатация религии в качестве маски для широкого социального и политического движения, для захвата власти не только на национальном уровне, но и... на изменчивой арене международных отношений (выделено мной.— В.С.)».
Конвей и Сигелмэн приходят к выводу: половодье «святого террора» извергается непосредственно из Белого дома. Правительственная поддержка правых клерикалов-фундаменталистов направляется ближайшими советниками президента.
Авторы имеют в виду прежде всего Джерри Фолуэлла, основателя экстремистской религиозной организации «Моральное большинство». Ни моралью, ни большинством там не пахнет. Пока крикливая группка фанатиков-реакционеров жжет крамольные книги, их предводитель — благообразный человечек, затянутый в тесную «тройку»,— нашептывает президенту на ухо разные знамения. Например, что «Россия должна быть уничтожена с помощью ядерного оружия».
Почему? Потому что в России совсем не та система, какая предусмотрена святым писанием. Из манифеста Фолуэлла «Слушай, Америка!», датированного 1980 годом:
«Система свободного предпринимательства ясно описана в Библии, в книге притчей Соломоновых. Владение частной собственностью — из Библии. Конкуренция в бизнесе — из Библии. Стремление к успеху в управлении бизнесом четко определяется там как часть плана господа для его народа».
Так атомный империализм рядится в святые одежды.
Отсюда ясно, почему в нашумевшей книжке-самоучителе ЦРУ для никарагуанских «контрас» их война с сандинистами называется «религиозной схваткой», «крестовым походом». «Мы другие,— наставляет американская разведка бандитов.— Мы христиане. С богом и патриотизмом мы восторжествуем над коммунизмом!»
Ясно также, почему, представляя военный бюджет на 1986 год, президент вдруг пустился пересказывать «От Луки святое благовествование», гл. 14, стих 31. Нужда в милитаризации, в срочном изготовлении ядерных ракет MX объяснялась такой библейской мудростью: «Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он...»
Опять святая книга, мол, на нашей стороне.
Самое любопытное, что никто в Америке, кажется, не заметил этого красноречивого деепричастного оборота: «идя на войну».
А, может быть, уверовали, что так оно и есть.
Аресты на амвоне
Хрустят ветки? Нет, палят из автоматов. Фигуры в маскировочных, пятнистых куртках движутся короткими перебежками от ствола к стволу. Угрюмые лица убийц. Сноровка опытных наемников.
Потом разопревшие, довольные собираются в колонну у дощатой трибуны. Глаз чьей-то любительской телекамеры выхватывает крупные планы: гитлеровский железный крест, гордо нацепленный на грудь, татуировка на мускулистом плече—«арийский патриот».
На трибуну легко вспрыгивает сухонький, опрятный старичок в цивильном костюме, но с белым стоячим воротничком. Капеллан какой-то. Сейчас благословит набегавшихся, продырявивших все мишени воинов.
Но нет. Отец святой вскидывает руку в четком, годами отработанном фашистском приветствии.
— Хайль!—гудят в ответ пятнистые.— Хайль! Аминь!
Эти, казалось бы, невероятные кадры были записаны на видеоленту одним американским тележурналистом в городке Хейден-лейк, штат Айдахо. Здесь, не в такой уж американской глубинке, под равнодушным оком властей процветает, вербует себе полчище, натаскивает своих боевиков гибрид религии с неонацизмом. Айдахская церковь именует себя «арийские нации».
Тележурналист проник туда с риском для жизни, прикинувшись единомышленником. Хотел было припасть к длани отца Ричарда Батлера, того самого старичка, как тот вручил ему автоматическую винтовку: «Готовься, сын мой, к священной войне!»
С кем? Это можно уточнить, если подключиться к секретной компьютерной сети, которой связали себя — не знаю уж, как лучше сказать,—то ли приходы, то ли боевые ячейки «арийских наций» в Айдахо, Техасе, Северной Каролине. Микропроцессоры служат здесь религиозной истерии. Набираешь нигде не зарегистрированный телефонный номер, отщелкиваешь на клавиатуре компьютера тайный код, и на экране ползет список «Знай своих врагов».
Адреса и телефоны. В кого стрелять, кого запугивать.
Местные отделения Коммунистической партии США...
Конторы профсоюзов...
Организация «Клануотч», что дает отпор ку-клукс-клану...
Имена борцов за гражданские права, активистов антиядерного движения, просто честных американцев, не зараженных расизмом...
Последних компьютер называет «предателями своей расы». А своих хозяев—«проамериканской, антикоммунистической сетью истово верующих, которые служат одному и только одному богу—Иисусу Христу».
Христос в коричневой штурмовке.
Где-то, кажется, уже было. Но теперь — «Сделано в США». Образец 1985 года.
Одна из инструкций, которую можно извлечь из этого нацистского электронного мозга, угрожает: «У наших слуг господа бога нет времени на брошюры и речи. Они — вооруженный отряд!».
Кому надо, это известно и так. В Калифорнии 17 налетчиков из «арийских наций» обстреляли и остановили броневик банка. Улов — 3,6 миллиона долларов. Деньги нужны в казну церкви Дабы воздать богу богово, а врагам — вражье.
Позднее в городе Денвер упал замертво с пулей в затылке популярный радиорепортер Луис Бим. Кровавые отпечатки пальцев привели в «арийские нации». Репортеришко, намекнули там, молол перед микрофоном красную пропаганду. К тому же еврей.
В нынешней религиозной горячке, когда правый фанатизм поощряют прямо из Белого дома, церковь «арийские нации» — не единственное логово ненависти. Страна буквально пошла сыпью военизированных клерикальных организаций. Автоматных стволов, похоже, уже больше, чем библий.
Северная Калифорния. Здесь некий «легион армии Сиона» зовет добрых христиан «снаряжать себя и тренироваться в военном деле». Предвкушает «иностранную атаку на нашу землю».
Южный Иллинойс. Тут члены «лиги защиты христианских патриотов» учат от Адама произошла только белая раса. Остальных господь завещал истинным верующим перебить!
Город Канзас-Сити, штат Миссури. Ультраправый «комитет 10 миллионов» созвал срочную окружную конференцию. Тема неотложная — подготовка к отпору в случае коммунистического вторжения. Обращение с оружием, ночные операции, контрпропаганда...
И полицию, и «федов» — агентов ФБР вся эта истовая суета с автоматическими винтовками наперевес беспокоит мало. А какие, собственно, основания для волнений? У нас, в Америке, если вы не знаете, абсолютная свобода совести. Желаешь — молись своему божку, даже если он шестизарядный. Ограбления банков? Убийства либералов? Тоже не такой уж грех, если учесть, что глубоко набожные патриоты собирают таким способом средства на благородные цели — искоренение антиядерной ереси, отражение возможной коммунистической агрессии. Или на вылазки против коммунистов— разница тут небольшая.
Однако свобода исповедания почему-то мгновенно иссякает, когда иной американец, поразмыслив, вдруг решает дать бой «воинам господа».
...Человек стоит у окна. Смотрит на улицу. Помимо стекла, свет проникает также сквозь круглые дырки в рамах,
В окно стреляли одиннадцать раз.
Несчетное число раз били стекла, резали шины у грузовичка. Сейчас дом огорожен трехметровым забором. Поверху пущены три ряда колючей проволоки. Джон Маррей добровольно заточил себя в крепость. Только бы спастись от террора.
Чем же прогневил бога Джон Маррей?
Тем, что пришел к выводу: бога нет.
В этом доме в городе Остин, штат Техас, размещается организация под названием «Американский атеистический центр». Ее директор Джон Маррей и председатель д-р Мэда-лин О'Хара, мать Джона, позволили себе усомниться, что кто-то сотворил нашу земную и внеземную красоту всего за шесть дней. Своими сомнениями они хотят поделиться с окружающими. Проинформировать общество, что бога, как им представляется, все-таки нет в наличии.
Ну и что? Казалось бы, все в порядке. Первая поправка к Конституции США обязывает конгресс не принимать никаких законов, которые бы вели к учреждению официальной религии или посягали на свободу исповедания. Иначе говоря, церковь в Америке отделена от государства
Так почему же атеисты в осаде?
— А куда вы, как вам кажется, прибыли работать?— вопросом на вопрос отвечает мне Джон Маррей.— В Соединенные Штаты Америки? Нет, в Соединенные Штаты Теократии. По сути, разделительная черта между церковью и государством давно размыта. Где клерикалы, а где государственные министры, где религия, а где политика — сам черт сегодня не разберет...
Маррей рассыпает передо мной поразительные, мало кому известные факты.
Оказывается, в конституциях семи американских штатов —Техаса, Арканзаса, Миссисипи, Северной Каролины, Южной Каролины, Теннесси и Пенсильвании — записаны специальные статьи, обязывающие государственного чиновника быть верующим. Атеист? Должности на госслужбе для тебя закрыты.
В 1963 году д-р Мэдалин О'Хара добилась решения Верховного суда, запрещающего молитвы в школах. Сейчас администрация насилует конгресс, требуя восстановить прежнее положение. Но этого, собственно, клерикалам даже не нужно. Верховный суд забыл сопроводить свой запрет ссылкой на какое-либо наказание. Поэтому в Америке до сих пор полно государственных школ, где, скажем, урок биологии открывается религиозными песнопениями.
Во многих штатах США действуют законы, карающие богохульство тюремным заключением. Помянул всуе кого-нибудь из «святой троицы» — за решетку!
Атеистов не пускают на порог учреждений, где можно взять на воспитание детей. С точки зрения властей, в приемные родители годятся только верующие.
Во многих штатах закон запрещает бизнес и торговлю в святой день — воскресенье.
Соединенные Штаты — единственная страна в мире, которая снабдила свою валюту религиозным девизом: «В бога мы верим».
И так далее...
— Самое тревожное в другом,— говорит мне Джон Маррей, — К власти сейчас пришла самая религиозная или, точнее, прикидывающаяся религиозной администрация в новейшей истории Америки. Большинство членов кабинета — выпускники колледжей с теологическим уклоном. Сам президент речи не испечет, не приправив ее клерикальными догмами.
Посмотрите, как наша администрация строит свои отношения с вами, с Советским Союзом. В этом есть что-то от расизма. В изображении Рейгана диктатура теократии, в какую превращается Америка, вроде бы выше страны, где правящая партия придерживается атеистического мировоззрения. Подтекст здесь такой: «Мы, хорошие христианские парни, должны покончить с безбожным коммунизмом».
— А что отсюда следует?— голос Маррея мрачнеет.— Что наше правительство — опасный партнер в международных делах. Оно может использовать ядерное оружие первым и представить это как миссию очищения. Спасем русских, отправив их в христианский рай на небеса!..
Доктору Мэдалин О'Хара годами не давали американского паспорта для выезда за границу. На нее, на Джона Маррея и других сотрудников атеистического центра заведены полицейские досье, где их называют «опасными политическими диссидентами». Агенты ФБР и ЦРУ топчутся на каждом их выступлении, фотографируют публику. Доктора О'Хара, пожилую женщину, арестовывали 13 раз!
— За что?—поинтересовался я.
— Скажем, за жестокое отношение к лошадям.
В Балтиморе полиция вспомнила колониальный закон XVII века, запрещающий держать лошадь на привязи более суток, поскольку у нее могут затечь ноги. Доктор О'Хара держала у дома автомобиль более суток. Ее арестовали и бросили в кутузку.
— Под капотом-то лошадиные силы! — объяснили власти.
Примерно так же обходятся здесь и с реалистично мыслящими религиозными деятелями. К таким полиция причащаться не ходит. В такие обители божьи являются не с просвирами, а с дубинками и собаками. «Святой отец, вы арестованы!»
Не один год отсидел за решеткой лютеранский священник Дуглас Рот. Между прочим, за христианскую заботу о бедном люде. Приглядевшись к тому, что творится вокруг его церквушки в поселке Клэртон, штат Пенсильвания, пастор заприметил: работы у народа нет и кушать ему, народу, тоже поэтому особенно нечего. А виновата, главным образом, сталелитейная корпорация «Юнайтед стейтс стил», свертывающая производство корысти ради. Ей потакает, в свою очередь, банк Меллонов.
Дуглас Рот как раз прочел тогда проект последнего пастырского письма Национальной конференции католических епископов. Святые отцы там дело говорят. Назвали экономическую политику Рейгана «социальным и моральным скандалом». Открыто признали: «Мы считаем возмутительным, что 35 миллионов американцев живут ниже черты бедности...»
Жизнь в родном Клэртоне, как картинка к этим словам, Чем же он, Дуглас Рот, может беде помочь? И священник придумал. Наивное, но честное. Вывел прихожан на войну с жестоким капиталом. Стал, скажем, закладывать в личные сейфы меллоновского банка дохлую рыбу—пусть богачам будет противно. Вручал кассиру пять долларов центовыми монетками и требовал тут же пересчитать.
С точки зрения закона—это неподсудные чудачества. Но пастора поддержали прихожане, и власти перетрусили: бунт! Дугласа Рота, наплевав на его духовный сан, засадили на три месяца в тюрьму. Он не смирился—стал записывать там свои проповеди на магнитофончик и передавать их на волю. Тогда пастору накинули тюремный срок.
«Святой террор» прекрасно сочетается в Америке с полицейским террором против церкви, если там, по мнению властей, завелась крамола.
Глядишь, вчерашний святой отец—сегодня уже диссидент за решеткой.
Такая резкая смена занятий произошла и с преподобным Джоном Файфом, настоятелем пресвитерианской церкви в городе Тусон, штат Аризона. Вместе с десятью другими священниками его обвинили в каком-то «заговоре с целью пособничества нелегальной иммиграции».
Файф коротко стрижен, очки мечут солнечные зайчики. На плечах у него крутится, верещит сынишка.
— И что же с вами стряслось?—интересуюсь я.
— Начало у этой истории такое. Мы живем, как вы знаете, рядом с мексиканской границей. И вот что мы обнаружили в 1980 году. Оказывается, беженцы из Сальвадора, те, кого, по счастью, не застрелили тамошние «эскадроны смерти», не замучили в застенках, кто еще не «исчез без вести»,— все эти люди, добравшись до Америки, попадали здесь из огня да в полымя. В Тусоне их хватали агенты службы иммиграции Сажали в тюрьмы, а потом возвращали назад в Сальвадор на растерзание. Большинство беженцев погибало. Но кое-кто в отчаянии стучался в двери нашей церкви. И вот тогда-то мы решили: надо им помочь. Для нас это был выбор между жизнью и смертью. Знаете, что выбирает настоящий христианин?
Я знал. Об этом, между прочим, напомнил тогда в своей речи в ООН и президент США. Он сказал:
«Чудо жизни дал нам некто более великий, чем мы сами. Но получив его, мы призваны лелеять и сохранять каждую жизнь, беречь ее не только для сегодняшнего мира, а и для того, лучшего, в который мы вступим...»
С этими трепетными словами на устах истовые христиане в администрации США отправляли беженцев домой на расстрел.
Преподобному Джону Файфу тогда показалось, что между политикой американского правительства и Библией существуют некоторые разночтения.
Поэтому в 1982 году он приколотил к воротам своей церкви фанерку с надписью: «Приют для беженцев, спасающихся от угнетения в Центральной Америке». Людская струйка, просачивающаяся через мексиканскую границу, стала растекаться по американским храмам, костелам, синагогам.
Так Джон Файф из города Тусон положил начало движению религиозно-политического инакомыслия, которое вскоре получило название «Убежище». Это христианский ответ на «крестовый поход» США в Латинской Америке. Ведь с благословения Рейгана и на американские деньги творятся зверства, от которых, дай бог, спастись бы тысячам людей в Сальвадоре, Гватемале, Никарагуа.
— Сколько церковных приходов укрывают у себя беженцев?—спрашиваю я священника.
— Двести семьдесят.
Любопытно. В то время как вашингтонская администрация делает вид, будто она находится на дружеской ноге с Всевышним, в стране разрослась, разветвилась гигантская сеть клерикального протеста. Она очень напоминает ту тайную тропу, по которой негры бежали с американского Юга во времена рабовладения.
Тогда и беглецов, и их соратников ждал суд Линча.
Сегодня Джона Файфа судят присяжные. Но такой ли уж это прогресс демократии?
Я вспоминаю заметку в одном здешнем еженедельнике, чтобы наскрести улики для суда, говорилось там, на проповедях и молитвах в церкви Файфа месяцами сидели люди из спецслужб.
— Так ли это, святой отец?
— К сожалению, так. В Америке впервые официально признали, что полиция, ФБР и прочие охранки внедрили своих агентов в церковный приход. О каком вольном отправлении религии, спрашивается, может идти речь?!
— Выходит, власти посягают на свободу совести?
— Выходит так. Нарушают первую поправку к Конституции. А как гнут и мнут само правосудие! Хотят представить процесс чем угодно, только не расправой над верующими диссидентами.
— Каким образом?
— Весьма незамысловатым. Судья попросту запретил нашим адвокатам и свидетелям касаться трех тем. А именно, вопросов религии, положения в Сальвадоре и Гватемале и, наконец, международного законодательства обеженцах.
— Какой может быть приговор?
— До 30 лет тюрьмы и штраф 28 тысяч долларов.
— А как же неприкосновенность места отправления религиозных обрядов? Традиции католической церкви помогать обездоленным?
Священнослужитель не отвечает. Спускает сынишку с плеч, и тот мчится куда-то по солнечной стороне улицы — одинокая маленькая фигурка, старательно огибающая тени от столбов и зданий.
Мальчишка еще не знает: от теней средневековья в Америке не убежишь...
Затрубят ли ангелы перед ядерной атакой?
Странная архитектура у этого храма божьего. Стрельчатые башни Риверсайдского собора Нью-Йорка растут прямо из огромного многоэтажного дома, занимающего целый квартал. Дом жилой. Когда над Гудзоном повисает звон колоколов, из окон квартир в крыльях собора, бывает, доносятся рок-ритмы и захлебывающийся говорок нью-йоркских радиостанций.
Всевышний здесь близок к земле.
В воскресное утро набережная у церкви пустынна. Только троица черных мальчишек бомбардирует стену бейсбольным мячом. Тук-тук!—кто в этом доме живет?
Не только безоглядная вера. Не только чистая теология.
Лифт возносит меня на девятый этаж. Небольшой круглый зал в утреннем полумраке, размытом кое-где бликами горящих свечей. Темные и светлые лица, как россыпь разноцветной фасоли. В центре мерцает телевизионный экран. Отсчитывает секунды зеленый глазок видеомагнитофона.
Через кадр-другой узнаю фильм. Это «Нет места, чтобы спрятаться» — новая видеолента протеста против рейгановской программы гражданской обороны. За семь лет на программу хотят спустить 4,2 миллиарда долларов. Предполагается, что американцы должны быть благодарны администрации, вознамерившейся спасти народ в случае ядерной войны.
Но у авторов видеофильма—другая позиция. Они критикуют программу, так сказать, от противного. Добросовестно, с издевательской верностью ее букве показывают, как все должно происходить по мысли пентагоновских спасателей.
Война! Каким-то чудом о ней известно за несколько недель. Начинается кризисная эвакуация. 150 миллионов американцев перекочевывают из районов «повышенного риска» в так называемые «гостевые районы». От одних до других—всего 50 миль. Неспешный, организованный отъезд в автобусах, на личных лимузинах. Оживленные, вроде бы даже радостные лица. Поток машин примерно как в пятницу вечером, когда горожане разъезжаются на уик-энд.
По экрану ползет текст титанического по оптимизму напутствия Т. Джоунса, помощника министра обороны США.
«Это получится у каждого — если только хватит лопат... Выройте яму, накройте ее парой дверей и набросайте сверху три фута земли. Именно земля-то и сработает».
Деловые, веселые люди копают лунки, валят деревца. То ли посадка роз на лужайке перед домом, то ли заготовка елок к рождеству. Нет, это, оказывается, придуманный чиновниками «Федерального агентства по управлению страной в кризисных ситуациях» способ, с помощью которого те надеются сохранить в живых 80 процентов населения.
Морякам подавай семь футов под килем. Агентству—три фута земли над головой.
Телевизионный экран гаснет. Аудитория взрывается вопросами.
Полная негритянка, вся в розовом, включая широкополую шляпу:
— А как мы узнаем, когда нужно приступать к эвакуации? О конце света протрубят заранее ангелы. А здесь кто? И что будут делать счастливчики? Не сидеть же под землей до второго пришествия...
Вскакивает юная девчушка в спортивном костюме. Как будто бегала утром трусцой по набережной Гудзона и забежала в церковь.
— Мы-то здесь говорим правильные вещи. Но кто-нибудь слышит нас в Белом доме? Кто-нибудь слышит в конгрессе? Почему конгрессмены провалили резолюцию о взаимном замораживании ядерных арсеналов? Ведь больше двух третей американцев—«за»!
На церковную кафедру поднимается пастор Лентон Ганн.
— Не мне вам объяснять,— говорит он,— как действует эта система президентских телефонных звонков прямо домой к конгрессмену. Тот только подцепил за завтраком бекон на вилку, а тут: «Алло, Боб? Это Рон. Хотел бы напомнить тебе, в какой степени замораживание ослабит страну...» Давление администрации, давление военных и военной индустрии взяло верх над демократией...
Белый стоячий воротничок оттеняет темнокожее лицо пастора. Господь создал Вселенную, говорит он, а мы можем уничтожить ее. Разве не греховно безумное накопление ядерного оружия, угрожающего творению Всевышнего? Вооруженный атом противостоит всему сущему: человеку, рыбе, цветку... Настало время, когда каждый верующий должен спросить себя: что я сделал, чтобы предупредить смертный грех ядерной войны?
Необычная воскресная проповедь? Нет, здесь это в порядке вещей. Еще в 1978 году при Риверсайдском соборе возникла так называемая «Программа по разоружению». Ее цель— исследовать взаимоотношение теологических доктрин, морально-религиозных норм и ядерной опасности. Несмотря на явно светский характер темы, большая часть 35-тысячного Риверсайдского прихода встретила идею с энтузиазмом.
Приход к власти администрации Рейгана с ее необузданным милитаризмом прибавил начинанию риверсайдских священников еще больше популярности. Прихожанин понял: ядерная угроза ломится в его дом разъяренным антихристом.
Собор на Гудзоне не исключение. Волна антивоенного протеста увлекла за собой многие крупные церкви Соединенных Штатов—католические, православные, протестантские.
Уж на что традиционно лояльна правительству мормонская церковь — и та указала на несовместимость христианского учения с ядерной бомбой и—что подразумевалось—с готовностью рейгановской администрации допустить ядерную войну.
Не только верить, но—действовать! В этом главная особенность нынешнего прилива американского религиозного пацифизма.
Раскрываю газету «Заметки по разоружению», которая издается Риверсайдским собором. Там не общие нравоучения— шепотком через решетку исповедальни. Там прямые, публичные вопросы к прихожанину. Направил ли ты письма местным и федеральным властям с требованием объявить свой приход безъядерной зоной? Заявил ли об отказе участвовать в учениях по гражданской обороне? Вероятно, у тебя есть акции или другие деловые связи с корпорациями— изготовителями ядерного оружия—«Бендикс», «Дюпон», «Дженерал электрик», «Монсанто», «Рокуэлл Интернэшнл», «Юнион карбайд». Продал ли ты эти дьявольские акции, отозвал ли свой капитал?
В конкретных действиях пастыри показывают пример пастве.
Архиепископ Сиэтла Реймонд Хантхосен отказывается платить ту часть федерального налога, которую прикарманивает Пентагон. Он пересылает эти деньги антивоенным движениям и фондам.
Епископ города Амарилло Лерой Мэттисен призвал всех, кто занят на заводах, выпускающих ядерное оружие, бросить эту греховную работу и «подыскать себе дело на мирной ниве».
К врачам и медсестрам калифорнийских больниц обращен клич епископа Сан-Франциско Джона Куинна: не создавайте резерва больничных коек, как того требует Пентагон. Не внушайте людям иллюзию, будто медицина может собрать и склеить черепки, оставшиеся от планеты после ядерного конфликта. «Моральная форма кражи» — вот что такое, по Куинну, гонка ядерных вооружений.
Сенсацией стала и ломка взглядов у Билли Грэхема, этой «звезды» международного евангелизма. В прошлом усердный пахарь н-1 антикоммунистической ниве, Билли Грэхем счел своим долгом приехать в мае 1982 года в Москву на Всемирную конференцию «Религиозные деятели мира против ядерной войны». Различия в политических и экономических основах общества имеют второстепенное значение перед лицом ядерной угрозы, считает теперь проповедник.
Тем не менее у Америки продолжали создавать иллюзию, будто антиядерные настроения под сводами храма божьего—это удел дерзких одиночек. «Еще один брат Берригэн!»—хихикала пресса, сообщая о мирном призыве очередного церковного деятеля. Имелось в виду, что религиозный протест против ядерного оружия сегодня такая же редкость, как памятное восстание братьев Берригэн, двух рядовых католических священников, против войны во Вьетнаме.
Теперь этой глумливой иронии пришел конец. В последнее время многие приходы Америки напоминают встревоженный пчелиный рой. На встрече в Чикаго крупнейшее христианское объединение Национальная конференция католических епископов одобрила пастырское письмо, где объявила ключевые элементы ядерной стратегии Р. Рейгана «аморальными».
Большинством в 238 голосов против 9 епископы осудили ядерную войну как смертный грех, отвергли доктрину первого ядерного удара и по существу призвали к взаимному замораживанию ядерных арсеналов США и СССР. Они подписались также под таким еще более крамольным, с точки зрения властей, заявлением:
«Должно быть четкое общественное сопротивление риторике о «победоносных» ядерных войнах, нереалистическим ожиданиям «выжить» в ходе обмена ядерными ударами и стратегии «продолжительной» ядерной войны».
Пастыри зовут паству к сопротивлению официальному ядерному психозу. Они предают анафеме многое из того, что записано в директивах Совета национальной безопасности и секретных меморандумах Пентагона.
С точки зрения администрации, ей был брошен крайне опасный и неожиданный вызов.
Дело в том, что американские католики никогда не отличались приверженностью к пацифизму, как, скажем, квакеры. Напротив, церковь традиционно близка к военным кругам. Католические университеты и колледжи охотно берут у Пентагона деньги на военные исследования. У так называемых РОТС—центров подготовки офицеров резерва — нет более старательного курсанта, чем католическое студенчество.
Известно также, что консервативные католики сыграли заметную роль в формировании внешнеполитических доктрин рейгановской администрации. Месса в Белом доме собрала бы крупные имена.
Тем более велик нынешний конфуз. Облеченные политической и военной властью католики говорят одно, а их духовные пастыри — совсем другое!
Точнее, прямо противоположное. «Мы выражаем наше мнение, что первая необходимость состоит в том, чтобы предотвратить любое использование ядерных вооружений,— заявляют епископы в своем пастырском послании.— Мы надеемся, что лидеры отвергнут представление, будто ядерный конфликт может быть ограниченным, сдержанным или в нем можно победить в традиционном смысле слова». Святые отцы требуют немедленно остановить испытания, производство и развертывание новых ядерных систем.
Что это, теология? Скорее, разумная политика. После утверждения национальной конференцией призыв к активному отпору ядерной угрозе стал моральным руководством для 51 миллиона американских католиков.
С точки зрения администрации, все это ересь, не влезающая ни в какие ворота. Ее надо выжечь — и как можно скорее.
Еще во время подготовки трех проектов пастырского послания на епископах пробовали разные рычаги давления. Начали с их мнимой некомпетентности. Появились статьи, где в грубой форме намекалось: сапоги взялись тачать пирожники. Епископы так же глубоко разбираются в делах Пентагона, как генералы — в проблеме абортов!
Реакционная организация Американский католический комитет срочно созвала встречу, на которой выступил, помимо прочих «авторитетов», небезызвестный Фрэнк Шекспир, бывший директор ЮСИА и оракул официальной пропаганды. В его речи была такая ключевая мысль: американские католики должны не с бомбой бороться, а, наоборот, «спасти страну от порабощения атеистической державой».
Фрэнк Шекспир выдает еще одну головную боль администрации. До последнего времени запугивание американских борцов за мир строилось на правительственной версии, будто их дергают за ниточки из Москвы. Заставляют, так сказать, «ослабить Америку». Сам президент обнаружил «массу доказательств», будто антивоенным движением крутят-вертят иностранные агенты, заброшенные в города и веси Америки.
Но красные агенты в черных мантиях католических епископов? Это уж слишком!
Есть две причины, которые позволяют расценить пастырское письмо как сокрушающий удар по рейганизму.
Во-первых, такой моральный авторитет, как Национальная конференция католических епископов, наконец уточнила адрес «центра зла». И судя по тезисам ядерной стратегии, отвергнутым в пастырском письме, он, этот центр, находится очень близко от Белого дома.
Во-вторых — и это связано с первым — позиция католических епископов сорвала попытки представить «безбожный коммунизм» дьяволом, угрожающим всем творениям Всевышнего. Есть, оказывается, другая, реальная угроза — ядерная. В борьбе с ней верующий и коммунист могут объединить свои силы.
Антихрист—это не чужая «красная» идеология. Это тот, кто готов нажать красную кнопку запуска ядерной смерти.
Вот почему Национальная конференция католических епископов была воспринята официальным Вашингтоном чуть ли не как нелегальное сборище подрывных элементов. Накануне конференции он тайно снарядил в Ватикан ветерана ЦРУ генерала Вернона Уолтерса. «Прикончит ли папа римский ядерную ересь?» — спрашивала «Вашингтон пост», раскрывая секрет генеральской миссии. Уолтерс кое-чего добился. Вождя антиядерного мятежа Джозефа Бернардина, архиепископа чикагского, спешно вызвали в папское государство.
Но раскаяния, видимо, не последовало. Архиепископ открыл конференцию страстным обращением к пастве:
— Моральная, политическая, экономическая и человеческая цена, в которую обходится гонка ядерных вооружений, невыносима! Требование момента — в глубоком и существенном изменении политики...
Белый дом тотчас снова пошел в контратаку. На второй день конференции «Нью-Йорк таймс» опубликовала специальное письмо тогдашнего советника президента по национальной безопасности Уильяма Кларка. Целая страница строгих инструкций заблудшим духовным пастырям. Кларк обвиняет их в «фундаментальном недопонимании политики администрации».
Придворный католик требует от епископов отчета. Почему в пастырском письме не нашлось места для «описания фактов и влияния советского военного строительства»? Почему не учтены комментарии правительства, направленные вам ранее? Почему... Почему... Рекламируя ядерный рай, Кларк явно угрожает еретикам официальным адом.
Те не дрогнули.
— Я не фасад, за которым прячутся русские,— без обиняков заявил кардинал Джон Кроль, архиепископ Филадельфии.
— Это все риторика!—отозвался о письме Кларка епископ Реймонд Пакер из штата Миннесота.— Администрация проталкивает политику наращивания вооружений, а не разоружение.
Но непримиримее всех оказался тот же архиепископ чикагский Бернардин:
— Нас не запугаешь,— сказал он.— Что до какого-то «фундаментального недопонимания», то время покажет, кто кого недопонимает...
Уже показывает. За минувшие после конференции годы пастырское послание о ядерной войне снискало широчайшую поддержку, и не только у католиков.
...Покидая в тот день Риверсайдский собор, я заметил на его стене металлическую пластину. На желтом фоне был изображен черный пропеллер. Знак предупреждал: под собором находится противоатомный бункер!
— Власти распорядились,— объяснила мне та негритянка в розовом, что интересовалась, затрубят ли ангелы перед ядерной атакой.— Но, верьте моему слову, никто из нас, прихожан, туда не полезет. Хотя сверху, пожалуй,— она закинула голову, всматриваясь в полумрак под куполом,— спасения тоже не дождешься...

14 Рок-н-ролл на похоронах
Я мертвым буду, ваша честь, богаче, не бедней.
Ты можешь жизнь мою отнять За мысли в голове.
Из песни Брюса Спрингстина «Джонни-99»
Муха в янтаре
На улице стоял столик. За столиком сидел человек. На столике красовались рваные лаковые башмаки.
— Почем?—спросил я.
Человек заломил сумасшедшую цену — под тысячу долларов. И, уловив мой изумленный взгляд, заторопился, запричитал:
— Он сам их мне подарил! Это его собственные, без обмана. Король сам мне их... Хотите на Библии поклянусь?
На Библии тоже значились инициалы «короля».
— Это его, личная! Он ведь был такой верующий. Хотите уступлю по дешевке, сотню-другую скину...
Я повернулся и пошел прочь. Здесь все имело отношение к «королю». И все можно было купить — по дешевке или не очень. На свете, кажется, не было такой вещицы, на которой еще не выгравировали его имени, не тиснули его парадного портрета.
Густо напомаженная, угольно-черная шевелюра. Мрачноватый взгляд исподлобья. А в общем простецкое, незамысловатое лицо—такие парни сидят по вечерам с банками пива в кабачках штата Теннесси.
И все-таки это был воистину король с миллионами подданных, разбросанных по всему миру.
Ордами, по 3 тысячи человек в день, они не первый год стекаются сюда, на окраину города Мемфиса, где над шоссе, переименованном в Его бульвар, стоит дворец «Грейслэнд». «Король» здесь жил. «Король» здесь умер. «Король» продолжает обитать здесь обожаемым и высокодоходным призраком.
«Грейслэнд» — это его осуществленная мечта с портиком, белыми колоннами и дорожками. Их, дорожки, каждое утро заново засыпают белым гравием, потому что к вечеру поклонники растаскивают целый грузовик камешков в карманах.
Мечта тоже на прилавке. В одном из сувенирных киосков мне предложили по всей форме заверенную купчую на один квадратный дюйм земли в парке «Грейслэнд». Гони 10 долларов и владей на здоровье. Хочешь — вбей колышек. Хочешь — посади одну редиску...
В то утро мне казалось, что я уже попал на тот свет и брожу среди теней. Сотни людей слонялись на рынке памяти своего идола — отрешенные, отгороженные от этого мира пластмассово-бумажной мишурой. Девчонка в джинсах тихо плакала, другая исступленно чмокала плакат с его портретом. На них никто не обращал внимания. Истерия? Она прислуживала «королю» всегда.
В этом загробном царстве клокотал, грохотал, чеканил горячую монету бизнес.
В кассах бойко торговали билетами. По командам из громкоговорителей автобусы перебрасывали людской поток в «Грейслэнд». Щелкая указками, как пастухи хлыстами, 42 гида стремительно прогоняли толпу по апартаментам дворца. Две минуты на комнату — не больше. Хлебните священного воздуха, взгляните на свою бледную взволнованную физиономию, отразившуюся в серебряном тазу, где он мыл ноги,— и прочь мимо вооруженных, с рациями, стражников— на задний двор.
Там можно сфотографироваться в его розовом «джипе». Заглянуть в окошко «кадиллака», который он подарил матери, хотя та не умела водить. И, освобождая место для новых волн трепещущих поклонников, отправиться в так называемый «Сад размышлений», где у фонтана покоится бронзовая плита с надписью:
Элвис Аарон Пресли
8 января 1935 года —16 августа 1977 года
Можно было бы добавить: «Король рок-н-ролла». Но зачем? Сегодня и так ясно, что из истории американской, да и вообще западной музыки его имя не вычеркнешь.
Что бы о нем ни писали в тех 54 книгах, которые вышли в США только за три года после его смерти, он был первым. Квартет «Битлз», ансамбль «Роллинг стоунз»—все они были уже потом. Все нынешнее половодье рока началось с Элвиса Пресли.
Простой парнишка из Мемфиса, водитель грузовика, насвистывавший ковбойские песенки под вечно включенное радио, Элвис какой-то причудой судьбы нашел удивительный сплав негритянских религиозных гимнов, фольклорных напевов и блюза, рожденного в дельте реки Миссисипи. Сплав, который получил имя рок-н-ролла.
Рок можно ненавидеть, не замечать или любить. Сегодня нельзя лишь отрицать, что это сложный социальный феномен. Для талантливых черных певцов и музыкантов 50-х годов это была дверь к их признанию белой аудиторией. Для нынешней молодежи Запада, да и не только Запада,—это своего рода второй язык. Для идеологов, засевших в кабинетах Информационного агентства США,—это один из видов оружия против ненавистного им социалистического общества.
Как в каждом крупном явлении культуры, в роке можно увидеть и свет и тени. Бесспорно одно: Элвис Пресли стоял у колыбели нового ритма, нового музыкального стиля.
И его судьба, личная и творческая,—это прекрасный материал для раздумий о зигзагах западной массовой культуры. О том, что творят с ее кумирами силы более высокого и жестокого порядка. И, если хотите, о той самой золоченой, вставленной в рамку и воспетой на все лады американской мечте, на которой вроде бы покоятся Соединенные Штаты.
В то утро я решился на маленькую бестактность — спросил девчонку в джинсах, кого или что она оплакивает.
— Как!—она одарила меня взглядом, где смешались и жалость, и всепрощение.— Элвис был... надеждой он нашей был — вот чем. Ему удалось то, чего нам не удается. Начал с дыры в кармане — а кем стал! И без всякого там колледжа. Школу продавцов окончил —и все...
Школа, похоже, пошла на пользу. При жизни Пресли он и его опекуны продали миллиард дисков, а после смерти — еще триста миллионов. Собственно, кажется, Элвис вообще не умирал. Точнее, никогда не жил, как все люди,—лишь висел меж бытием и небытием, залитый в целлулоид кинофильмов, в шеллак граммофонных пластинок.
Как муха в янтаре.
Тревор Фишлок, один из проницательных, самобытных биографов «короля рока», писал:
«Элвис Пресли присоединился к маленькой когорте живых мертвецов нашего шоу-бизнеса. Электронные чудеса техники и эксплуатация сделали из его смерти просто какой-то мимолетный антрактик, сбой в потоке обожания и наживы».
Добавим: с наживой после смерти дело обстоит намного лучше, чем при жизни.
Кстати, что нажил сам Элвис? Чего он такого достиг, что заставляет грызть ногти от зависти несметную рать поклонников?
В их притихших, благоговейных рядах иду по «Грейслэнду». Двадцать один зал и залец, набитые дурным вкусом и причудами нувориша. Городской ковбой из Мемфиса крепко усвоил, что красиво—это когда много и богато.
Рояль, обклеенный сусальным золотом. «Полмиллиона стоит...» — стонет гид, и толпа стонет вместе с ним. В комнате для игр в стену вмурованы 14 телевизоров. «Король» любил подглядывать за амурными приключениями своей свиты. Другой зал превращен в джунгли: все пятнисто-полосатое, по стенам стекают водопады. Вот где, говорят, Элвису дышалось свободнее всего...
А с той стороны шоссе на это великолепие уставился тупым носом личный самолет «короля». На фюзеляже его любимый девиз: «Делай бизнес, и молниеносно!».
Теперь этим советом руководствуется его наследник-корпорация «Пресли истейт». Она-то и разгулялась больше всех, когда Америка отметила в 1985 году 50-летие со дня рождения своего идола. Телеэкран взяли в осаду старые фильмы с участием Пресли, видеозаписи его концертов. И через каждую минуту какой-нибудь очередной «однокашник» или «ближайший друг» Элвиса проникновенно восклицал:
— Какой он был джентльмен!
— Какая нежная душа!
За охапкой пластмассовых венков от Америки спрятали то, чем ей действительно запал в душу Элвис Аарон Пресли. Его дар пионера рока. Его мужество первопроходца расовых барьеров в поп-музыке.
И его «гений банальности», который сделал из кумира идеальную жертву для тех, кто качает чистоган из американской массовой культуры.
Пожалуй, лучше других об этом знает человек, первым записавший Элвиса на пластинку.
Все эти годы издательства и репортеры осаждали Сэма Филлипса, «крестного отца рок-н-ролла», владельца маленькой студии в Мемфисе. Но тот хранил молчание.
— После смерти Элвиса я не сделал на нем ни цента,— с гордостью признался он мне.
Сэм Филлипс рассказал и многое другое. Любая американская газета проглотила бы это интервью, не разжевывая, и за бешеные деньги. Почему Филлипс дал его советскому журналисту? Конечно, во многом помог наш общий знакомый, профессор Мемфисского университета.
Но вертится и другая мысль: не побаивался ли Филлипс, что его не очень-то привычные оценки роли и личности Элвиса были бы освистаны отечественными летописцами преслианы?
... Студия «Сан» на Юнион-стрит, 706 подслеповато щурится опущенными жалюзи двух окошек. Внутри — сарай сараем. Никакой аппаратуры, у которой священнодействовал Элвис, никаких матриц дисков не сохранилось.
— Все растащили!—всплескивает руками Филлипс.
Если что-то здесь зрелищно, так это он сам. Атласную черную куртку перечеркивает вышитая гладью надпись «Сэм». Волосы до плеч, борода. Собеседника буравят горящие, с безуминкой глаза. «Крестный отец рока» немножко играет в отмеченного божьей благодатью человека-мессию.
Но сквозь этот демонический облик, сквозь водопад мудреных, с французским прононсом для пущей важности, слов то и дело прорывается настоящий Сэм Филлипс. Человек, одержимый верой в гуманное предназначение рок-музыки. И одновременно мелкий делец, у которого, киты бизнеса выдрали с мясом его удачу.
— Витало ли что-то в воздухе в начале 50-х годов, что делало неизбежным появление рока?—спрашиваю я.— Если бы не Пресли, пришел бы другой исполнитель?
Филлипс отбрасывает волосы назад, словно стараясь помолодеть на три десятилетия.
— Тогда, в 1950—1953-м, я в одиночку записывал негритянских певцов. Много записывал,— вспоминает он. Густому, приученному к микрофону баритону, кажется, тесно в маленькой студии.— Б. Б. Кинг, Бобби «Блю» Бланд — это все мои, я первый выпустил их на виниле... Только никто не брал эти диски. Радиостанции воротили нос от черной музыки. А я записывал и думал: ведь есть миллионы американцев, кто может понять, как выразительны эти напевы. Сколько в них честности, житейской мудрости! Значит, есть рынок! И народная музыка белых, что обитала в Кентукки, в Теннесси, она тоже не попадала в эфир. Люди играли у себя на крылечке, для друзей...
— В масштабе микрокосма страны это был культурный пробел!—вдруг грохает кулаком по столу Филлипс.
Вспомнил, видать, что великий человек должен изъясняться покудрявее. Но маска скоро спадает. Сэм отходит, возвращается к своему естеству. И вспоминает, как мечтал найти белого исполнителя, который бы пел, как черный. Не копировал бы, не пытался имитировать. А взялся бы за ту музыкальную нить общего жизненного опыта, что связывает черного бедняка с белым бедняком. Рабочего с рабочим. Понимаете? И чтобы не украсть ни у того ни у другого, понимаете?
Убит американской мечтой
Счастливый случай вломился в студию «Сан» летом 1953 года в облике смущенного парня с коком смоляных волос. «У матери, значит, день рождения, ну, я вот... записать ей песенку...»
Это был Элвис.
Песенки его резали ухо, не ахти были песенки, но Сэм Филлипс благодарит бога, что сумел тогда понять: этот гортанный, с придыханием голос, это пронизанное негритянской тоской исполнение баллад, этот взрывной, вулканический темперамент—вот что было нужно в тот момент
— Ну, а на ваш вопрос отвечу так,— Филлипс снова вперивается в меня взором спасителя человечества.—Думаю, это могло случиться и без Пресли. Элвис дал нам энергию, которая так нужна автомобилю в холодное утро, когда аккумулятор не тянет. Но это не значит, что машина бы не завелась без него...
И Сэм откидывается в кресле, восхищенный собственным красноречием.
Тогда, в 1954-м, первые записи Элвиса никого особенно не восхитили. Напротив, их восприняли как бесовское покушение на мораль и традиции. Диск-жокеи радиостанций топтали и били пластинки с рок-н-роллом, словно в них было нечто возмутительно неприличное.
А что, собственно, могло шокировать обывателя в том послании, с каким обращался к нему Пресли? Ничего. «Люби меня нежно», «Не будь жестокой», «Позволь мне быть твоим игрушечным медвежонком». Такие песенки можно мурлыкать за воскресным семейным обедом после заутрени в церкви.
Где же таилось потрясение устоев? В звуке. В пересечении запретных расовых барьеров. «Революция была в том,— признает в журнале «Мазер Джоунс» музыковед Ариэль Суортли,— как Элвис Пресли соединил вместе греховное звучание южного блюза с безумным, вырвавшимся наружу экстазом «госпел» (негритянские церковные песнопения.— В.С.)
Тогда-то и начали сотрясать Америку ритмы рока.
Какими запомнились те годы Сэму Филлипсу, соавтору новой музыки?
— Сопротивление. Такое было сопротивление — и-и-и-гу!—издает Сэм ковбойский клич.
— Люди услышали эту музыку, и она не очень-то была похожа на музыку Глена Миллера, на его большой танцевальный оркестр, хотя спасибо Глену за черт те сколько прелестных вещиц. Миллер, Синатра... Все было приторно сладко и — вдруг рок! Пресли сразу прокляли. И, знаете, кто? Крупные фирмы звукозаписи. Те самые, которые потом доили из него чистое золото. А тогда стоял крик: «Это музыка тотального разрушения нравственности!» Издавались разные грязные буклеты. У меня осталось очень мало друзей...
Один все-таки остался, рассказывает Филлипс. Это был Пол Экерман, редактор «Билборд», популярного журнала, который пишет про индустрию грамзаписи, про ее певцов и дельцов. Он-то и шепнул тогда Сэму, на какой шантаж пошли фирмы-гиганты. Звонят ему, Полу, и говорят: если тиснешь рецензию на Пресли в разделе поп-музыки — откажемся помещать там рекламу. Если дашь хоть слово о нем в разделе «Кантри» — этим страницам объявим бойкот. Если под рубрикой «ритм-энд-блюз»—там наших денежек не видать! Страшнее угрозы не придумать. Пол, тот, правда, устоял. Он такой. Всегда шел до конца — мир праху его, оставшемуся во Вьетнаме...
Фабрикантов сладкого звука особенно возмутили не рваные ритмы рока, а то, что Пресли выступал под аккомпанемент вокального квартета «Джорданэрс». И тут черные!
— Я всегда говорю: в нашей музыке, может быть, больше расовой сегрегации, чем в остальной Америке,— обескураженно крутит головой Филлипс.— Поэтому, думаю, у Элвиса все-таки не отнять социальной значимости. Дело не в содержании его песен, а в самом характере его творчества. Анти-расистском характере—конечно, на первых порах... Он, Элвис, не был композитором. Не гонялся за глубокой философией. Тем не менее ему близка негритянская душа, он сам вырос на хлопковых полях, хорошо разбирался в сложностях жизни. Послушайте-ка его балладу «В гетто»...
Тут Филлипса опять заносит в сторону собственного исторического величия. Да что там Пресли! Ну паренек не без дара божьего, ну «король рока». А кто был этому «королю» отцом, матерью, братом? Кто играл на струнах его души, как на кнопках и рукоятках магнитофона? Он, Сэм Филлипс.
— Зачем же вы тогда продали его?—задаю я немилосердный вопрос.
— Кого?—Филлипс явно не ожидал, что я копну биографию идола так глубоко.
— Элвиса. Вашего сына и брата Элвиса Аарона Пресли В 1953 году. Продали его на корню концерну «Ар-си-эй рекорде», не так ли? За какую цену, интересно?
Филлипс сникает. Из велеречивого творца музыкальной революции он мгновенно превращается в мелкого неудачника, которого обобрали среди бела дня. Не удержал, не уберег...
И я слышу уже не гром проповеди, а вздохи застарелой обиды на всех вокруг, а пуще всего на эту неверную, вертлявую дамочку—рыночную конкуренцию.
— Деньги! Понимаете, так нужны были деньги! Хотел укрепиться. Сделать из «Сан» живучую, независимую фирму. К тому же жена, двое малых детей на руках. Жили, как у нас говорят, «из кармана — в рот». Что зарабатывал, то и проедали. Ну, смотрю, «Коламбиа» заплатила чикагской фирме «Меркьюри» за певца Фрэнка Лейна 25 тысяч долларов. А Элвис, что же, хуже, что ли, товар? Ну, я запросил за него 35 тысяч и часть потиражных. Думал — заломил. Думал—не согласятся. А они — цап!—и схватили...
«Отель, где разбиваются сердца» и «Гончая собака»—эти первые записи Пресли под маркой «Ар-си-эй» сделали из него национальную знаменитость. Юное поколение, и прежде всего рабочая Америка,—те, кто шоферил на рейсовых грузовиках, потел в чаду на бензоколонках, стоял за прилавком мелких лавчонок, прислуживал в ресторане,— эта Америка, узнавшая во взлете Элвиса свою мечту, с ума сошла по волоокому кумиру. А тот откалывал на сцене такие коленца, что телевидение решалось показывать его только от талии и выше.
«Король» взошел на свой трон. Но недолго длилось безмятежное царствование.
Всего три года. В 1958-м по роскошной шевелюре Пресли прошлись ножницами — забрили на военную службу. «Элвис умер в тот день, когда он пошел в армию»,— скажет позднее Джон Леннон. Он имел в виду симпатии тех своих единомышленников, для кого армейская форма пахла гарью вьетнамских деревень.
Нет, Джон, «король» умер чуть раньше.
Разрушение всего музыкально-интересного, бунтарского в Элвисе Пресли началось в тот миг, когда он попал в холеные крепкие рученьки своего импресарио — полковника Тома Паркера, а тот затолкнул его в соковыжималку шоу-бизнеса.
Антея оторвали от земли—живой, связанной с ним общей мечтой аудитории. Пресли заставили делать то, что быстрее приносит деньги. Всего за несколько лет полковник снял Элвиса в 16 глупейших фильмах, где не было ничего, кроме пересахаренных, сдобренных ванилью и облитых шоколадом историй о том, как ковбой влюбляется в кукольную блондинку.
На эстраде, в эфире еще только начинали греметь те, кого породила эра рока — группа «Битлз», черный гитарист Джимми Хендрикс, удивительная рок-певица Джэнис Джоплин. А сам Элвис уже принес мятежность изобретенного им стиля в жертву девизу, выписанному на фюзеляже личного самолета: «Делай бизнес, и молниеносно!».
Собственно, теперь бизнес делали другие. Существование «короля рока» как бы раздвоилось. Выходили какие-то диски, на сценах Лас-Вегаса и Гавайских островов тяжело металась неузнаваемая, 120-килограммовая туша в белом комбинезоне со стоячим воротом.
Рубаха-парень, гонявший когда-то грузовики по пыльным дорогам Теннесси, исчез. Возник другой Элвис—тот, что нежился сейчас в розовых пижамах в своем храме вульгарности по имени «Грейслэнд». Свора прихлебателей, так называемая «мемфисская мафия», пичкала его там бутербродами с ореховым маслом и бананами, как пичкают индейку, уготованную на рождество. А заодно и наркотиками. Одурманенным, заросшим жиром «королем» легче управлять.
— Когда я был мальчишкой,—сказал как-то Элвис,—я листал книжки-комиксы и мечтал стать их героем. Смотрел кино и мечтал стать героем фильмов. Теперь мои сны стали явью тысячу раз...
Пресли обладал, скажем, правом на арест в четырех американских городах, где его объявили почетным полицейским. У кумира была роскошная коллекция револьверов. Один он носил за голенищем сапога даже во время концертов. Из другого палил по экранам телевизоров, если там появлялась физиономия, не вызывавшая у него симпатий Воистину супермен спрыгнул со страниц комиксов в жизнь.
Одним прекрасным утром 1973 года Пресли кликнул своего телохранителя Реда Веста. «Король рока» обливался потом, оплывшие щеки дрожали:
— Черт тебя побери, Ред, тебе что, не ясно? Не ясно, что его нужно прикончить?! Найдите человека, найдите убийцу. Пусть его уберут! Я бы на твоем месте нашел такого молодца за 10 секунд. И ты найдешь! Давай, поворачивайся!
Речь шла о том, чтобы пристрелить Майка Стоуна, инструктора по каратэ, с которым сбежала жена Пресли Присцилла.
Разве не так поступают ковбои в кино? Телохранитель позвонил куда надо. И убийцу нашли. Тот запросил 10 тысяч долларов. Тут, правда, «король рока» дал задний ход. Для лобового столкновения с экранными грезами не хватило духа.
— Что убило Элвиса?—спросил я в той двухчасовой беседе Сэма Филлипса.
— Физически убило?
— В конце концов, физически...
— Ну, я не врач...—замялся Филлипс. Потом с жаром стал живописать дурную наследственность Пресли, его слабое сердце. Толковал о том, «как трудно в нашем ремесле удержать место навёрху, не скатиться вниз». А кончил доверительно, будто открывал какую-то тайну.
— Понимаете, он, Элвис, ясное дело, сидел на наркотиках. Никакого сомнения. Никакого. Я не оправдываю его, только пытаюсь объяснить... Люди вокруг него, «мемфисская мафия», они не помогали ему, хотя кое-кто — мои приятели. Чем больше Элвиса затягивали наркотики, тем меньше он становился самим собой... Ум помутнел, душа поблекла Конечно, он был наркоман, бог ты мой! Конечно, не ангел...
16 августа 1977 года около 2 часов дня очередная подружка нашла Элвиса Пресли на полу в ванной. Шелковая пурпурная пижама шикарно распласталась на голубом ковре.
Токсикологи обнаружили в крови 14 разных наркотических препаратов. На суде личный врач Джордж Никопулос признался, что за 3 последних года прописал своему подопечному 19 000 доз снотворных, успокоительных и «веселящих» снадобий.
Никопулоса оправдали. Полковник Паркер, Ар-си-эй и «Пресли истейт» продолжают стричь купоны. А парень из Мемфиса, подаривший миру рок-н-ролл, лежит под бронзовой плитой в гробу, оборудованном специальным устройством против воров. Поклонники уже не раз пытались выкопать его тело.
Итак, что же убило Элвиса Аарона Пресли? Аритмия сердца? Наркотики?
Думаю, нет.
Его убила осуществленная американская мечта.
Рожденный для бега
Голос и гитара. Больше ничего. Голос хрипловатый, с какой-то вольной небрежинкой. Так нью-йоркские таксисты водят по шахматной доске Манхэттена свои желтые «плимуты». Будто в дорогие студии эту гитару не пустили, будто инженеры звукозаписи над ней не мудрили. Шагнул певец в какой-то ангар, в ремонтную мастерскую, и забились тревожные аккорды в ритме мигалки просвистевшей мимо полицейской машины.
Гул шин угадывается за каждой нотой. Весь альбом—это движение во времени и в пространстве. Из сегодня — в детство, из пронзительного одиночества — в объятия любимой. Но нет в Америке дорог без аварий. Мало сегодня здесь жизненных перекрестков без трагедий. Порой трудно отличить, когда — просто выхлоп, а когда — выстрел...
В минувшем месяце
в Мауа [Город в штате Нью-Джерси, где расположен один из крупнейших сборочных заводов Форда.]
закрыт автозавод.
Ральф побежал
искать работу
— да нет нигде работ.
Пришел домой
совсем хмельной
от джинно-винных
бдений,
убил портье
и прозван был
Джонни-99.
Это потому, что судья дал Ральфу 98 и один год тюрьмы. Не знаю, почему Брюс Спрингстин назвал свой альбом «Небраска» — по заглавию другой песни. Именно «Джонни-99» мне показалась эмоциональной осью, вокруг которой вращается этот знаменитый диск.
Но не в названиях дело. Вот уже много лет «Небраска» лидирует в американской таблице популярности по классу рок-альбомов. Это коммерческий успех. И одновременно— это безусловное художественное достижение.
Такое бывает настолько редко, что даже еженедельник «Ньюсуик» в некотором смятении. Конечно, Брюс Спрингстин — один из идолов современного американского рока. По почему «Небраска»?
Времена нынче мрачные, рассуждает критик, продажа грампластинок катится вниз. Сейчас естественен был бы интерес к «эскапизму в весе петуха». Сейчас бы того же Спрингстина, каким его знали завсегдатаи рок-концертов в гнезде нью-йоркской богемы Гринвич-Виллидж. Чтобы зал—три часа на ногах, чтобы полы оседали от притопа. Но нет, ничего подобного. Вереница серьезных, мрачных, даже пугающих баллад. Скорее, в стиле «кантри», чем рока. Так почему же?
Не о смерти портье эти песни, уважаемый г-н критик, и не о гибели Ральфа, заживо погребенного на 98 и один год. Они, сдается мне,— о похоронах американской мечты.
Давным-давно, когда Брюс Спрингстин еще ходил пешком под стол...
У самых
у ворот из закаленной стали
днем детвора
шумит-играет.
Весь тот дворец, что на холме,
стальные створы закрывают.
Это «Дворец на холме» — хрустальная, сказочная детская считалка. Затемно отец везет ребятишек по пустынным, немым улицам за город, и там, примостившись на обочине автострады, они смотрят на парящий в облаках света, смеха и музыки дворец на холме. «Право на стремление к счастью», огороженное стальным забором.
Почему они с отцом по эту, темную сторону черты?
Брюса Спрингстина, который сам пишет свои песни, часто называют «виртуозом сюжета». И не только по сравнению с текстами массового рока вроде «Я—Джейн, ты—Тарзан». Считается, что Спрингстин соперничает с Бобом Диланом по интеллектуальному началу в своем творчестве.
В «Небраске» точность образа порой обжигает. Как бы ни звали героя — Ральф, Джо Робертс или Фрэнки, певец ведет его через песни одной дорогой — разочарования в доступности того, что казалось гарантированной мечтой.
Об этом и баллада «Старые машины». Отец покупает за гроши ржавое корыто на четырех колесах, а в память мальчу-гана врезается другое — взгляд, каким продавец ощупывает дешевенькое обручальное кольцо матери, натруженные руки отца.
День выигрыша в лотерею жизни должен прийти. Но когда?
Никогда, Герою Спрингстина это становится ясно уже в песне «Атлантик-Сити»:
Ищу работу,
словно в поле ветер.
Здесь или куш возьмешь,
иль центик сдачи.
Вверх за черту
давно уже не светит,
и я устал быть
вечной неудачей.
Стальные ворота дворца на холме остаются запертыми. Открываются, да и то не всегда, другие двери — контор по регистрации безработных, ночлежек, церковных благотворительных кухонь.
Пустота отчаяния. Для пяти миллионов американских юнцов ее заполняет кокаин. Для семи миллионов—дурман подешевле, вроде синтетических клеев. Третьи берутся за оружие, чтобы отомстить владельцам дворцов, шикарных лимузинов, всему человечеству.
Статистика молодежной преступности в США угрюма, но колонки цифр впечатляют меньше, чем, скажем, нашумевшая история Чарльза Старквезера и Кэрил Фьюгейт—юной парочки, расстрелявшей из обреза десять человек в штате Небраска. Зачем стреляли? «Просто так!» Пресса ахнула. «Немотивированное преступление»,— согласились ученые-криминалисты.
Немотивированное ли? В заглавной песне альбома «Небраска», посвященной этой трагедии, протест Брюса Спрингстина не очень-то отчетлив: «Шериф, когда я сяду на электрический стул и тот парень врубит электрический ток, пусть моя девчонка сидит у меня на коленях...»
Но в «Джонни-99» певец не оставляет никаких сомнений, почему в карманах джинсов у бедного люда завелись револьверы. Ральф держит последнее слово передсудом. Но это и его суд над неправедным обществом.
Ну вот, судья,
я весь в долгах.
Я честный человек.
Заложен скарб,
и банк решил
Забрать мой дом
навек.
Нет, говорю все не затем,
чтоб без вины предстать.
Вложило в руку револьвер, такое...
не сказать.
Я мертвым буду, ваша честь,
богаче, не бедней.
Ты можешь жизнь мою
отнять
за мысли в голове.
Скажи, судья, зачем сидишь,
ни слова не мыча.
Обрей мне голову скорей
и кликни палача.
Где случилась эта банальная история? Где угодно. Может быть, в городке Фрихолд в штате Нью-Джерси. Стопроцентный американский рабочий городок, еще не задушенный автострадами. Брюс Спрингстин родился там в 1949 году. Гонял на роликовых коньках. Не вылезал из кино, когда там крутили Элвиса Пресли. Детство кончилось тем, что Брюс купил себе за 18 долларов гитару. Подражателей Пресли стало на одного больше.
Ни один биограф Спрингстина не берется перечислить группы и оркестры, с которыми тот играл. Их тьма. Но сам Брюс помнит все. И эти бесконечные клубы, частные вечеринки, балы пожарников, тюрьмы, психиатрические лечебницы, автостоянки и универсамы, где грохотала его гитара.
1972 год принес удачу — подписан контракт с «Коламбиа рекордc». Но первые два альбома недвижимо лежали аккуратными пачками в магазинных ячейках. Покупателя настораживали усложненные сюжеты песен, простой гитарный аккомпанемент, так непохожий на аранжировки ведущих рок-групп. УКВ-станции не пустили Спрингстина в эфир. Певец вернулся на подмостки клубов, автостоянок. .
Занавес непонимания прорвала серьезная критика. Крупнейший авторитет в области рок-музыки Джон Ландау побывал у певца на концерте, ушел потрясенный и наутро написал в бостонской газете: «Я видел будущее рок-н-ролла, и его имя Брюс Спрингстин... Он создал иллюзию, будто я слушаю рок впервые в своей жизни».
Продюсеры из «Коламбиа рекордc» без энтузиазма, но все-таки вновь зазвали Спрингстина сделать пробную запись.
Наконец успех! Альбом «Рожденный для бега» сотрясает мир западного рока. Диск не распадается на дорожки-песни. Это песенная повесть с единой сюжетной линией. Спрингстин ходит с гитарой за своим героем, простым пареньком из Нью-Джерси, в течение одного дня. От скрипа двери, выпускающей его на улицу в «нежаркое и пустое лето», до полночной автогонки по «уличным джунглям, где голодные смотрят в глаза отверженным». Это безумный бег от лживых ценностей общества, которое готово казнить за «мысли в голове» и оставить бедняку в собственность лишь приставленный к виску револьвер.
За шесть недель альбом «Рожденный для бега» разошелся тиражом в миллион оттисков. «Нью-Йорк таймс» назвала его «рок-классикой» и «лучшим диском последнего десятилетия».
Потом произошло неизбежное. Спохватившись, что упускает миллиарды, «Коламбиа рекорде» начала сумасшедший «хайпинг» Брюса Спрингстина, то есть коммерческую рекламу его имени. Извержение маек с портретами певца, плакатов, значков, пуговиц, полотенец и прочей мишуры завершилось публикацией его снимков одновременно на обложках двух ведущих американских еженедельников — «Тайм» и «Ньюсуик».
Но «хайпинг» почему-то ударил бумерангом. Продажа пластинок резко упала. Интерес к певцу стал спадать, как проколотая шина. «Хайпинг встал у меня на пути»,—жаловался Спрингстин в одном интервью.
Он никак не объяснил происходящее. А феномен, на мой взгляд, интересный. Нападая в пустыне коммерческого рока на редкий чистый родник, думающий слушатель больше всего боится быть обманутым, обведенным вокруг пальца на мякине «подростковых» словечек, абстрактного псевдопротеста, едва замаскированной звуковой порнографии. Тогда-то в этой атмосфере ожидания встречи с настоящей современной музыкой «хайпинг» воспринимается как примета подлога.
...С тех пор минули годы. Новые альбомы Брюса Спрингстина выходили нечасто. Силы певца поглощал затяжной судебный процесс с «Коламбиа рекорде», которая хотела удержать его в кандалах рабских контрактов. Но альбом «Небраска» доказывает: подлинные «звезды» рока не угасают.
Известность не искорежила Брюса Спрингстина. В жизни он так же прост, как герои его песенных новелл. Спросите, в чем выйдет сегодня на сцену,— не знает. Конечно, не в сверкающих шароварах и с шевелюрой, крашенной зеленкой. Скорее, в той же рубашке, в какой прогуливал утром пса. Одежда для него — не фетиш.
Брюс не курит, не пьет, не ищет истины в наркотиках.
Среди идолов американской эстрады он выглядит белой вороной — коротко стрижен, не пестует бороды, не холит усов.
Подлинный рок—это не тряска локонами. Это сотрясение душ.
Спрингстин не разменивает душевную энергию на внешние формы существования. Она нужна ему для стремительного, неутомимого бега. Прочь от казенных иллюзий всеобщей справедливости — к осмыслению удивительного образа жизни, когда не работают ни обитатели ночлежек, ни обитатели дворцов, но по разным причинам.
По вечерам из окон домика Брюса Спрингстина в Нью-Джерси слышны аккорды его знаменитой рок-исповеди «Рожденный для бега»:
Днем мы потом исходим
в гонке за американской мечтой.
Ночью штурмуем, самоубийцы,
славы дворец золотой
Малыш, этот мир ломает тебе хребет.
Это западня гибельна. Где ответ?
Давай удерем отсюда,
пока на висках нет снега.
Скитальцы вроде нас, малыш,
рождены для бега.
Видеобезумие
Мы с женой ужинали у одной знакомой американки. Уютно потрескивал камин. За бронзовой решеткой пламя лизало раскаленные угли. В аквариуме водили хороводы яркие тропические рыбы. Игра огненных бликов, мерное движение рыбьих хвостов навевали спокойствие, созерцательность. Хотелось философствовать и обобщать.
— Раньше-то у меня были живые рыбы,— вскользь заметила хозяйка между салатом и бульоном.— Да вот что-то не доглядела. Прихожу, а они — вверх брюшком. А этих и кормить не надо...
Рыбы плавали на телевизионном экране.
Камин полыхал тоже на экране.
В комнате работало два видеомагнитофона, которые проигрывали так называемые «кассеты настроения». Три-четыре часа записанных на пленку умиротворяющих картинок. Широкий ассортимент в любой лавке. Хочешь горящий камин, хочешь сплошняком рассветы и закаты, да еще под Моцарта.
Между прочим, действительно успокаивает, Словно сам ныряешь в прохладный аквариум, смывая с себя суету нью-йоркского бытия.
... В преддверии президентских выборов 1984 года 73-летний Рональд Рейган решил намекнуть избирателям, что еще крепок телом. Журнал «Пэрейд» напечатал его статью, где президент живописует, как он играет каждый вечер с железом в подвале Белого дома. За короткий срок президентская грудь раздалась, оказывается, на два дюйма. Статья начинается фразой: «Посторонись, Джейн Фонда, вот идет Рональд Рейган с его физзарядкой».
Это явная попытка погреться в лучах чужой славы. Видеокассета, где киноактриса Джейн Фонда демонстрирует свой комплекс физических упражнений, была самой ходовой новинкой того сезона. Миллионы американцев ежедневно скакали у своих экранов, пытаясь подражать акробатическим трюкам Джейн.
Одержимому физическим усовершенствованием обывателю теперь объяснили: президент тоже упражняется, но по-другому. Какой-то процент голосов — в кармане у республиканцев.
... Боссы телесети Эй-би-си, наверное, проклинают тот час, когда им пришла в голову мысль снять фильм «На следующий день». Образы ядерной бомбардировки Канзас-Сити не давали спать американцам, поднимая их на протест против военной политики своей администрации. Видеокассет «Следующего дня» долго не было в продаже. Но записи, сделанные с эфира и размноженные антиракетными организациями, сразу стали фактом политической жизни. Их крутили в университетских городках, в церквах, даже в клубах заводов, производящих ядерные боеголовки.
Власти попытались пресечь расползание крамольного фильма. Так, кассету направили в посольство США в Маниле с суровой пометкой: «Только для вашей ориентации. Распространению не подлежит». Но было уже поздно. Любительские видеокопии «Следующего дня» наводнили филиппинские города, прилегающие к американским базам Кларк и Субик-бей. Те, кто требует отказать Пентагону в праве гнездиться на филиппинской земле, получили веский аргумент. У ворот американского посольства прошла гневная демонстрация.
Так видео идет атакой на бомбу и ее покровителей.
Я взял лишь три стоп-кадра, иллюстрирующих, пожалуй, одно из самых интересных явлений на стыке технического прогресса и массовой культуры Запада. Видеобум!
Впрочем, это еще осторожно сказано. Возможно, точнее было бы: видеореволюция. Взрывное развитие общедоступной, домашней техники видеозаписи родило не просто новое средство информации. Видеомуза — а она отнюдь не двойняшка телевидения—дирижирует сегодня гигантской новой отраслью массовой культуры. Новинка меняет многое в социальной жизни. Она открывает американцам личные, так сказать, персональные двери в два разных мира — высокой культуры и ее низменных заменителей.
Все началось в 1975 году. Именно тогда на американском рынке появилась первая модель домашнего видеомагнитофона японской фирмы «Сони». «Бетамэкс» — так назывался аппарат—был громоздким, дорогостоящим и мог вести запись на одной кассете лишь в течение часа.
Шоу-бизнес всех мастей второпях увидел в новинке злейшего конкурента, если не смертельного врага. Несколько лет в Верховном суде Соединенных Штатов тянулся процесс по иску кинокорпораций «Юниверсал» и «Дисней» к «Сони»— так называемое дело «Бетамэкс».
У юристов Голливуда как будто был резон для обиды. Когда обладатель видеомагнитофона записывает фильм или телевизионную программу, переданную в эфир, он вроде бы посягает на авторское право их создателей. Получив возможность крутить кино на дому, не отучится ли зритель ходить в обычные кинотеатры? Не упадет ли популярность телепередач?
Кроме того, американское телевидение во многом кормится рекламой. Но сильная сторона видеомагнитофона, с точки зрения западного потребителя, состоит как раз в том, что тот позволяет — вручную или с помощью специальных автоматических устройств — «вырубать» рекламу при записи. На этом основании фирмы угрожали снизить плату телестанциям за прокручивание рекламных роликов. Громко ворчали и тогда еще немногочисленные видеотеки. Если можно записать с эфира, то кто же будет брать кассеты напрокат?
Сегодня все эти опасения интересуют только летописцев. Дело «Бетамэкс» кончилось победой «Сони». Бизнес домашнего магнитного кино или растолкал, или совратил конкурентов. Видеобум в разгаре.
По подсчетам Ассоциации электронной промышленности США, к концу 1986 года в стране в частном пользовании было более 20 миллионов кассетных видеомагнитофонов. Еще сотни тысяч американцев владеют видеопроигрывателями, где носителем изображения служит диск вроде граммофонной пластинки.
Коробки законсервированных картинок хлынули в дома.
Что проповедует этот новый видеобожок, на которого молится сейчас здешний обыватель?
... Угол 57-й улицы и Седьмой авеню. Жму на кнопку звонка у входа в видеотеку «Видео коннекшн» — у нее несколько таких пунктов проката в разных районах Нью-Йорка. Сквозь стекло продавец изучает меня с ног до головы. Не грабитель ли? Кассеты — «горячий» товар, и их похищение, иной раз целыми грузовиками, не редкость.
Нет, грабители с виду другие. Впустили.
Менеджер магазина Скот Роббли, молодой, стремительный, в дымчатых очках, словно спрыгнул с журнальной рекламы идеального «делового человека». Поклонник видео-музы не только по долгу службы. Читает специальные журналы — их сейчас здесь расплодилось уйма. Варится в соку проблемы.
Разговор начинает типично по-американски: с обстрела собеседника цифрами. Взгляните-ка на полки! Здесь примерно полторы тысячи кассет. Художественные фильмы, рок-концерты, учебные программы вроде «Как самому наклеить обои», «Как сварить лапшу по-китайски». На эти жанры главный спрос.
Сколько всего на рынке названий? Примерно тысяч сорок. Взять кассету домой на просмотр стоит два с половиной доллара. В среднем вдвое дешевле, чем сходить в «большое» кино. Но ходят и туда, и к нам в видеотеку...
— Значит, видео не загрызло Голливуд? Ведь когда-то опасались...
— Куда там!—смеется Роббли.— Видеобум принес длинный доллар и Голливуду. Читали, что доходы кинотеатров наконец-то полезли вверх? То-то и оно. Видео делает бизнес кинематографу и наоборот. Человек посмотрел новый фильм, а через шесть месяцев мы ему—раз!—и выкладываем на прилавок кассету. Понравилось, как Клинт Иствуд опять вышибает плохим парням мозги в боевике «Внезапное столкновение»? Возьми Иствуда напрокат домой. Купи его насовсем. Коллекционируй своих иствудов до бесконечности...
Мой собеседник немножко неточен. Не одна муза делает бизнес другой, а обе запряжены в общий бизнес. Какую голливудскую корпорацию ни возьми — «Парамаунт», «XX век-Фокс», «Коламбиа», «Юниверсал» и так далее,— все они наперегонки создают совместные предприятия для производства видеокассет. Размножать есть что: киноархивы неисчерпаемы.
Но все-таки, что именно?
Тут Скот Роббли недоговаривает. Сама интимная природа видео дает возможность дельцам легче, чем когда-либо, подменять художественные критерии коммерческими. «Повторяемость», «коллекционность». За этими интеллигентными терминами прячется попытка всучить обывателю кассету с законсервированным бездумьем, психопатическим насилием, глумлением над моралью.
Ведь законы публичной цензуры в США на видео не распространяются. Нажатие кнопки, включающей видеомагнитофон,—это как укол шприцем себе в вену. Никто не знает, никто не слышит.
Инъекция витаминов? Продавцы наркотиков давно бы разорились.
...Листаю каталог магазина «Видео коннекшн». Триста страниц с картинками и индексами. Систематизировано по жанрам, актерам, режиссерам.
Вот, например, актер Рейган Рональд. Можно унести домой семь лент с его участием: «Морские дьяволы», «Черная победа», «Убийцы», «Время отправляться в постель для Бонзо» и так далее.
— Ну и как, есть спрос?
— Берут,—улыбается Роббли.— Народ хочет сравнить, какая роль ему удается лучше. Морского дьявола или просто президента.
Менеджер заводит длинные рассуждения насчет особенностей домашнего просмотра видеокассет. Мысли особой оригинальностью не блещут. Видите ли, это совершенно не то, как если пойти на тот же фильм в кино. Полный контроль над восприятием. Захотел — остановил фильм, сделал перерыв. Не понял, почему кого-то угробили,— повторил сцену. Не нравится — поставил другую кассету. Не зрелище помыкает зрителем, а зритель как бы управляет им. Понимаете?
Понимать-то я понимаю. Но, листая каталог, склоняюсь к выводу, что выбирать особенно не из чего. Точнее, выбор уже сделан. Ассортимент зрелищ явно сдвинут в сторону мюзиклов, боевиков типа «пиф-паф» и «бум-бум».
Что представлено в неисчерпаемом многообразии и чуть ли не с научной основательностью, так это «художественные» экскурсы в больную человеческую психику.
Видеобизнес погружает обывателя в фантасмагорический мир, какой, наверное, неведом даже самым буйным обитателям «желтых домов».
Там нет других звуков, кроме воплей и стонов. Нет другого цвета, кроме кроваво-красного. Обычный кинематограф ужасов в духе Хичкока кажется невинным младенцем в пеленках по сравнению с видеобезумием таких кассет, как «Я плюю на твою могилу», «Я пожираю твою кожу», «Убийца с коловоротом», «Держи мою могилу открытой», «Я женился на чудище из космоса» и прочая, и прочая. Недостатка в этих сюжетах нет: способы умерщвления и расчленения человеческого тела бесконечны.
Особый раздел со стыдливым целомудрием озаглавлен «Развлечение для взрослых». Каждый фильм помечен крестами — клеймом американской цензуры для порнографической продукции.
— Какая доля вашего видеофонда «под крестом»?—поинтересовался я.
— Примерно треть,— развел руками Роббли.
Конечно, в каталоге можно отыскать и «Щелкунчика» в постановке труппы «Нью-Йорк сити балет», и такую национальную киноклассику, как «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Но «серьезных» кассет удручающе мало.
Кое-что можно купить. Стоимость свежего видеофильма раз в тридцать дороже разового просмотра. На каждую дюжину взятых напрокат кассет продается только одна.
Видеобум обнажил, раздел до нитки классовый принцип в дележе пирога культуры на Западе. Культура доступна всем — но разная. Одни наслаждаются хореографией. Другие—возможностями столярного коловорота по прободению человеческого черепа.
В целом прогресс видеотехники дал тем, кто кормит западного обывателя зрелищами, и своего рода сточную канаву, куда спускают все отбросы массовой культуры, и водопровод родникового искусства. Дело лишь в том, что они подключены к разным этажам общества.
Это заметно и в том влиянии, какое видеобум оказывает на эфирное телевидение. Оно нищает. Ветераны «ящика» — телесети Си-би-эс, Эн-би-си и Эй-би-си прячут все мало-мальски в художественном отношении ценное, чтобы его, не дай бог, не скопировали задарма на видеокассету в момент передачи.
Как это делается? С помощью новых платных систем телевидения, именуемых кабельными.
Сегодня существуют две Америки. Та, что победнее, еще сидит под телевизионными антеннами. К той, что побогаче, видеоизображение доставляют на дом по кабелю, круглосуточно транслирующему десятки различных программ. Естественно, за немалые деньги. Передачи по некоторым каналам здесь тоже зашифрованы — плати, уважаемый абонент, дополнительно!
Видеобум перекачивает культурные ценности из эфира в кабель и в кассеты. В «ящике» остается одна пустота. Социальные последствия? Тревожные, считает Дон Эдвардс, конгрессмен-демократ из Калифорнии.
«Это означает,— пишет он,— что те американцы, кому недоступно платное кабельное телевидение и кто не может позволить себе сходить с семьей в кино, будут лишены того «бесплатного» развлечения, какое у них до сих пор было. Такая участь может постичь половину всех американских семей. Но производителей видеомагнитофонов и видеокассет не тревожит будущее свободного телевидения...»
Точнее было бы: будущее культуры для народа.
Воистину: «Я плюю на твою могилу».
Читатель уже знает, в 1983-м рок-певец Майкл Джексон совершил невообразимое.
Его диск «Триллер» (можно перевести как «фильм ужасов», поскольку о нем одна из песен) разошелся более чем в 20 миллионах экземпляров!
Такое не снилось Элвису Пресли. Об этом могла лишь грезить группа «Битлз». В условиях экономического спада и оцепенения, не отпускавших граммофонную индустрию Запада с 1978 года, Майкл Джексон вскарабкался к рекорду, место которому в книге Гиннеса.
Неужто настолько гениально?
Лично мне кое-что там нравится. Но дело, конечно, не в музыкальных достоинствах пластинки, если они даже есть.
Эти песни нужно не слушать, а... смотреть. Америка празднует свадьбу видео и рока. Успех «Триллера»—лишь показатель того, в какой степени гипнотизируют зрителя короткие, трех-пятиминутные видеосюжеты под аккомпанемент рок-групп.
Это повод также задуматься над тем, как видео захватывает контроль над прочими музами массовой культуры.
В самой идее иллюстрации музыки средствами кино или телевидения нет ничего нового. Но видеорок—это нечто иное. Это возможность коллекционирования. Опять-таки контроль над звукозрелищем. Захотел —купил видеокассету с песнями из «Триллера», захотел — включил, захотел — выключил. И, главное, невиданная ранее массовость.
С августа 1981 года Америку облучает со спутника, а потом проникает в квартиры по кабелю программа «Музыкального телевидения» Эм-ти-ви. Это стереофонический видеорок 24 часа в сутки. Зрительская аудитория —17,5 миллиона семей.
«Видеоблиц!—ликует по поводу происходящего журнал «Ньюсуик».— Он потряс Голливуд, спас граммофонный бизнес и открыл целое новое направление в восприятии музыки».
Насчет Голливуда сказано не случайно. Одним из наиболее кассовых фильмов стал в те дни «Танец плоти»—лента, сработанная по формуле видеорока. Ее сюжет укладывается в одну строку. Смазливая девица в кожаной мини-юбке трудится днем сварщицей, а ночью пляшет в баре. Ясно, что ей удается лучше. Как сострил один здешний критик, разговоры действующих лиц ведутся в фильме только с тем расчетом, чтобы зритель успел выскочить между «танцами плоти», скажем, за пакетом кукурузных хлопьев.
...Видеобум многолик. Новая муза оказывает далеко еще не изученное, но, по-видимому, немалое влияние на развитие кино, собственно телевидения, поп-музыки.
И не только внутри страны. Видео усиленно приручают для пропаганды американского образа жизни, буржуазной нравственности на афро-азиатских и прочих рынках массовой культуры. Не зря здешняя ассоциация по экспорту фильмов еще в начале 80-х годов хвастала: 30 процентов ежегодной «экспансии» — употреблен именно этот термин — составляют видеокассеты. В 1986 году видеоэкспорт США перехлестнул вывоз кинопродукции.
Словом, с какой стороны к нему ни подступись, видео-это интереснейший социальный феномен Запада.
Если хотите — его ставка в поисках нового оружия в идеологической борьбе будущего.

15 Америка без Марка Твена
Первым моим американским предком, господа, был индеец—древний индеец! Ваши предки ободрали его живьем, и я остался сиротой.
Сэмюэль Клеменс
Современен, но чем?
Что вы на меня так уставились, дорогие читатели? Не узнаете, что ли? Да я это, я, Гек Финн! Про меня первый раз пропечатали, если помните, еще в 1884 году.
А это наш плот. На нем мы все еще плывем вниз по Миссисипи. Оброс мхом, отяжелел от речной глины, но еще ничего, тянет свою ношу, старикан.
А кто это ворочается там под одеялом? Ясное дело, дружище Джим, негр мисс Уотсон. Крепкий такой, совсем еще не дряхлый негр. За него восемьсот долларов когда-то давали, не знаю, как сейчас.
С утра вот какая приключилась с нами история. Только рассвело, только разогнал ветерок туман, смотрю — плывет. Нет, не мертвое тело. Плывет что-то белое. Вроде как носовой платок...
Подцепил шестом — обрывок газеты. Разбираю буквы — что за чертовщина! Число-то там, не поверите... Число-то 14 ноября 1985 года! Газета из будущего!
— Джим!—заорал я—Джим, фу-ты ну-ты, господи помилуй! Мало того, что ты проспал поворот на Каир, откуда мы должны были отправиться в северные штаты. Ты еще загнал плот не в тот век! В двадцатый, чуть не в самый конец его. Взгреть тебя мало!
— А почитай, сэр,— вдруг попросил негр. Джим у меня любопытный, пытливый. Помните, как он объяснял, будто Луна рожает звезды, как лягушка икру мечет?
Ну, я и стал читать вслух. Ну, эту миссисипскую газету «Джэксон эдвокейт» за 14 ноября будущего столетия. Читаю и чувствую, как язык прилипает от ужаса к небу. Вот, скажем, такой заголовок:
«Сожжен крест. Черный подросток украден и повешен на дереве. С 1883 по 1959-й толпы линчевали негров 538 раз».
Я поднял глаза. На Джима было больно смотреть — хотелось разреветься на всю реку. У него было такое лицо, как в день, когда Король и Герцог выдали его за беглого раба и заперли на ферме дядюшки Сайласа Фелпса.
— Что же такое, Гек...— наконец выдавил он.— А где же воля? Которую, говорят, подарили моему народу добрые хозяйки вроде мисс Уотсон? И потом, разве ничего не добились за сто лет наши американские, как их, бог ты мой., аболиционисты? Гек! Гек Финн, погляди мне в глаза, отвечай!
Ответить было нечего. Я просто продолжал читать вслух. В статье приводились слова некоего Генри Киркси, сенатора законодательной ассамблеи штата Миссисипи. Видать, большая шишка, хоть и черный. Так что, может, рано Джим закручинился о судьбе своего горемычного народа?
Нет, не рано.
«Власти усиленно приукрашивают, припудривают изменения в сторону расового равноправия. Создают впечатление, будто произошла какая-то революция. Но у меня другая точка зрения. Да, изменения есть. Но они состоят лишь в том, что власти научились прекрасно рекламировать несбывшее-ся. Усовершенствован грим на лице расизма».
Это он, Генри Киркси, пишет о нашей родной дельте Миссисипи. Как была она страшным местом для негров, так, видать, и осталась. А вы говорите, сто лет прошло. Нет, дудки, Гека Финна не разыграть! Если верить литературоведам, у меня обостренное чувство справедливости.
А какая там, на Миссисипи XX века, справедливость? Хотя половина населения — негры, из 209 судей и прокуроров, по словам Киркси, их только два человека. Зато по ту сторону тюремной решетки черным-черно. Две трети заключенных— цветные...
Только сказал я это Джиму, как тот испуганно перекрестился.
— Нам, бедным неграм, всегда не везет,— прошептал он.— И все это, думаю, из-за змеиной кожи. Той, что ты, Гек, нашел тогда на горе. Говорил я тебе—не к добру это, не к добру.
— Знал бы, в руки не взял!—поклялся я.
Тут наш интересный научный разговор про свойства сушеной змеиной кожи пришлось прервать, потому что, откуда ни возьмись, надвинулся на наш плот, перекрыл вид на Миссисипи огромный остров посреди реки. Намного громаднее того Джексонова острова, где мы прятались с Джимом от погони.
Этот называется Мад-Айленд. Я сразу раскусил, что к чему. Просто наши потомки взяли мель напротив города Мемфиса, понастроили там павильонов, навешали разноцветных ламп и превратили полторы мили речного ила в этакую увеселительную ярмарку.
Повстречавшиеся мне рыбаки в яликах рассказали, что на Мад-Айленд каждый год наведывается больше миллиона зевак. А хозяева дерут за сезон 20 миллионов долларов. Вот это куш! Какого черта я искал сокровища индейца Джо!
Я сразу стал высматривать афишу. Что-нибудь вроде той, какую вывешивал Герцог:
Королевский жираф,
или
Царственное совершенство.
Вход 50 центов. Женщины и дети не допускаются.
Вместо этого прямо над окошком кассы, куда ломилась толпа, висело объявление такого содержания:
Речные катастрофы.
Паровой двигатель.
Марк Твен.
Аквариум.
Взрослые и дети старше 12 лет — 5 долларов.
Мистер Марк Твен, покровитель Тома Сойера, да и мой с Джимом крестный отец! Как не встретиться с создателем нашей славы и бессмертия!
Но дороговато. Причем, если смотреть только аквариум, паровой двигатель и катастрофы, но без Марка Твена, можно билетик подешевле. А если с Марком Твеном — будь любезен отсчитать пять зелененьких и никаких разговоров.
Почесали мы с Джимом затылки, но все же пошли.
Ну, и что же оказалось за зрелище? Такое, что корове не удержаться от смеха, если она раньше не заплачет.
Предъявляем билет, входим в комнату, а там в деревянной качалке сидит старик и держит в руке сигару. Белоснежный костюм, копна седых волос. У ног большая бронзовая пепельница, сбоку — чугунная печка. Похоже, и впрямь мистер Марк Твен в своем доме в Хартфорде, где он описал мои приключения. Только какой-то ненастоящий, что ли. Сидит и не шевелится. Я пригляделся: ба, да это восковая кукла!
Тут вдруг заскрежетали шестеренки, зазвякали пружины, качалка закачалась, и из усов пошли ровненькие кольца табачного дыма. Потом и забухал голос. Жестяной такой, утробный, словно забубнила пуговица на белой жилетке. Кукла отпускала боцманские шуточки.
Мы с Джимом переглянулись. Так-то наши потомки придумали почтить память любимого сочинителя? Того самого, чьи книги люди будут читать, пока слышен смех на Земле, пока у человечества есть детство. Говорящим чучелом между паровым двигателем и аквариумом?
— Послушай, Джимми, старина,— сказал я.— Помнишь, ты рассказывал, как ведьмы объехали на тебе верхом вокруг света, а спина у тебя потом саднила, как под седлом?
— Ага,— оторопел негр.
— Давай-ка, увози нас отсюда!—крикнул я.— Мчи обратно, в родимый XIX век. А то в этой Америке будущего, как в воскресном костюмчике, что напяливала на меня вдова Дуглас,—душно, аж мочи нет.
Вот и конец моих новых приключений.
С совершенным почтением
Гек Финн.
* * *
Нет, Америка не забыла Сэмюэля Клеменса, то бишь Марка Твена.
Просто в те осенние дни 1985 года она восславила его так, что, будь великий писатель жив, вся эта суета вдохновила бы его не на один блистательный памфлет.
Американцы, конечно, знали, что это год Марка Твена. Сразу три юбилея: 150 лет со дня рождения, 75-я годовщина смерти и еще — тут допустили, правда, маленькую натяжку, чтобы все уж было заодно,— столетие выхода в свет твеновского шедевра «Приключения Гекльберри Финна».
Если какой-то рассеянный чудак и позабыл бы о торжествах, здешняя реклама и ТВ не дали бы ему долго пребывать в темноте.
Выйдешь на Бродвей—там зазывают на спектакль «Большая река». Конечно, про твеновскую Миссисипи и, конечно, мюзикл. Включишь кабельную телесеть—там тоже косяком идут одинаково прелестные, волосок к волоску причесанные мальчики. Изображают Тома и Гека. Гек, по-моему, даже более умильный, чем Том.
Не дремал и академический мир. Национальное географическое общество устроило в Вашингтоне выставку, где показывали мебель из домов Твена и сувениры, какие он привозил из-за границы. Мебель шикарная, к такой сейчас даже американцу со средним достатком не подступиться. Сувениры, как сувениры.
Какой образ писателя сложится в косматой, утонувшей в бейсбольной кепке головушке вот того юнца, заскочившего на выставку перед рок-концертом, где певец в порыве вдохновения откусывает головы у живых летучих мышей?
Не знаю.
Вообще, современен ли Твен для новых Геков?
«Современен, современен!»—старались убедить американцев другие занятные мероприятия юбилейного года. Вот только чем современен?
В городе Элмайра в штате Нью-Йорк—там было поместье жены писателя Оливии Лэнгдон, а сейчас разместился «Центр по исследованию Марка Твена» — научная общественность помянула великого соотечественника тем, что устроила... фестиваль кошек. Так и было объявлено: «Кошачий фестиваль в честь величайшего кошколюба в истории американской литературы».
Холли Хэвит, директор «Центра по исследованию», объяснила ученый замысел так:
— У Марка Твена было 19 кошек. Однажды он даже взял трех напрокат у соседа-фермера...
Что ж, кое-кто из нынешних американцев тоже обожает домашних животных Спасибо исследовательскому центру — навел мостик между писателем и современностью
В Хартфорде, где Твен жил с семьей более 20 лет, организовали чтение-марафон его книг. Чтецы трудились, сменяя друг друга непрерывно день и ночь, пока все не прочли.
Дежурила, говорят, «скорая помощь». Это уже не литература, а что-то вроде тяжелой атлетики.
В Реддинге, штат Коннектикут, отцы города решили поклониться Тому Сойеру—соорудили в парке забор, и любой прохожий мог побелить пару-другую штакетин. Яблок, правда, за работу не давали.
Все это порой мило, часто — безвкусно, отчасти объяснимо характерным для американцев стремлением к театральности, к шоу, но во многом не так безобидно, как может показаться.
Устроители юбилея, подозреваю я, хотели бы растворить память о великом демократе, свободолюбце и реалисте в забавных мелочах. Из Марка Твена — сатирика, от которого так досталось фарисеям, стяжателям, расистам, антисемитам, любителям воткнуть американский флаг в чужую землю,— из этого Марка Твена старались слепить ту самую восковую куклу, что развлекает зевак на Мад-Айленде за 5 долларов.
А где, Америка, в твоей юбилейной памяти сложная, спаянная с участью простого люда судьба бродяги, боцмана, солдата, изобретателя и покровителя изобретателей, репортера, банкрота и всегда — защитника бедных, собрата угнетенных?
Почему держат в архивных сейфах, как какой-то антигосударственный секрет, знаменитую твеновскую речь 1881 года «Плимутский камень и отцы-пилигримы»? Великий патриот Твен бросил там в лицо филадельфийским богачам:
«Первым моим американским предком, джентльмены, был индеец—древний индеец! Ваши предки ободрали его живьем, и я остался сиротой... Моими предками были также все салемские ведьмы! Ваши родственники дали им жару!.. Первый раб, доставленный вашими предками из Африки в Новую Англию, был моим родственником...»
Этим духовным родством с униженными, обделенными и неудобен, похоже, юбиляр своим официальным поклонникам. Давайте-ка восславим его абстрактно! Давайте-ка возложим лавровый венок на чело «Линкольна американской литературы», но не вспомним, за что.
Примерно так поступило, скажем, в своей юбилейной статье «Нью-Йорк таймс бук ревью». По просьбе этого литературного приложения один маститый американский писатель перечитал «Гека Финна» и пришел к заключению:
«Я не мог отделаться от чувства, что у меня в руках книга молодого, современного—тридцатилетнего или тридцатипятилетнего— и невероятно талантливого писателя со Среднего Запада».
Значит, современен все-таки.
Но, признав неопровержимое, автор тут же ускользает в проникнутую твеновским юмором параболу. По его словам, «автор «Приключений Гекльберри Финна» явно многому научился у таких крупных писателей, как Синклер Льюис, Дос Пассос, Джон Стейнбек, он многое позаимствовал у Фолкнера...».
Песчинки в песочных часах здесь падают вверх. Все эти авторы творили позднее Твена. Статья в «Нью-Йорк таймс бук ревью»—это, по существу, вариация на тему хрестоматийного высказывания Хемингуэя о том, что вся американская литература вышла из одной, книги Марка Твена, которая называется «Гекльберри Финн».
Как ни почетно юбилейное эхо отзыва тридцатилетней давности, оно не может заменить ответа на вопрос, которым задаются в наши дни миллионы почитателей великого сатирика:
Как звучит твеновское слово в сегодняшней Америке?
Лишь мимоходом «Бук ревью» робко касается главного, замечая, что в «Геке Финне» «мы переносимся в те времена, когда роман между белыми и черными только начинался и казалось, что в будущем все возможно».
Роман не состоялся. Расовая справедливость все еще остается в зоне желаемого.
А страстному критику бед Америки Марку Твену по-прежнему мстят за то, что оказался пророком.
Распятие духа
В 1884 году библиотека в Конкорде, штат Массачусетс, смахнула с полок «Приключения Гекльберри Финна», назвав его содержание «чистейшим вздором».
Через столетие рать мракобесов опять заталкивает шедевры Твена в книгорубки, превращающие печатное слово в бумажную лапшу. Юбилей лишь придал им азарта.
Некий Джон Уоллес из чикагского управления по делам школ возглавил ни мало ни много как общенациональную кампанию против «Гека Финна». «Это самый вопиющий пример расистской белиберды, какая только увидела свет!» — голосил он.
Ему вторил Джулиус Лестер из Массачусетского университета. Тому почудилось, будто великий сатирик нарисовал в своей книге «примитивный и зловещий психологический портрет белого мужчины».
Это Гека-то! Каждый, кто преподает книжку в школах,— расист, негодует ученый муж.
На что опираются поразительные обвинения Марка Твена в расизме? Что кроется за ними?
Я расспрашиваю об этом д-ра Шелли Фишер-Фишкин, профессора американской литературы из Техасского университета.
Ее миловидное, чем-то напоминающее викторианские портреты дочерей Твена лицо часто мелькало в те дни на газетных фотоснимках. Д-р Фишер-Фишкин подарила юбилею замечательное открытие — она отыскала новое, ранее не публиковавшееся письмо Сэмюэла Клеменса. И письмо это рубит под корень миф о его «белом фанатизме».
— Твен — расист? Давняя лжетеория,— говорит она.— Каждый, кто способен на вдумчивое, чуткое прочтение Марка Твена, знает, что автор «Приключений Гекльберри Финна» был решительно настроен против расовой предвзятости. Причем во всех ее формах. Но в книге осуждение рабовладельческого общества дается через восприятие мальчика. Гек слишком невинен, чтобы бросить вызов нормам этого общества. К тому же оценки автора, как всегда, окрашены иронией. Твен осуждает расистов не в лоб. Он бичует их смехом. Люди, не понимающие иронии или делающие вид, будто не понимают, приходят к выводу: ага, Твен рисует расистов чуть ли не с симпатией! Это, конечно, не так. «Гек Финн», на мой взгляд, величайшее по силе осуждение расовой ненависти, какое только можно найти в американской литературе.
— А вы знакомы с текстом твеновского письма?—спрашивает меня Фишер-Фишкин.
Я знаком. И рад, что «Литературной газете» удалось отметить год Твена первой публикацией этого документа в русском переводе. Вот его предыстория.
В 1885 году в Йельском университете бедствовал, едва набирал по центу плату за учебу студент-негр по имени Уорнер Макгуин. Как-то ему поручили встретить лектора на вокзале, и этим лектором оказался Твен. Позднее Макгуин решился попросить писателя о финансовой помощи. Тот тут же написал декану юридической школы Йельского университета следующее:
Хартфорд, 24 декабря 85 г.
Уважаемый сэр,
Знаете ли Вы его? Достоин ли он? Не думаю, чтобы я с большой радостью помог бы белому студенту, который испрашивал бы благотворительности у незнакомца, но у меня нет таких чувств по отношению к человеку другого цвета кожи. Мы выбили из них человеческое достоинство, и это наш позор — не их, и мы должны платить за это.
Если этот молодой человек на самом деле живет так скромно — а тот, кому это удается в столь стесненных обстоятельствах, должен бы этим гордиться,— я хотел бы знать, какова стоимость обучения, чтобы я мог оплатить 6, 12 или 24 месяца пансионата в зависимости от суммы счета.
Как видите, он ссылается на Вас. А то бы я не рискнул к Вам обратиться.
Искренне ваш,
С. Л. Клеменс
Спрашиваю д-ра Фишер-Фишкин:
— Почему ваша находка так важна?
— Обратите внимание на дату. Письмо написано тогда, когда вышел из печати «Гекльберри Финн». И оно на редкость четко, в прямой форме раскрывает убеждения Твена. Само по себе это очень необычно...
Я съездил в город Нью-Хейвен, где находится Йельский университет, и вместе с его старожилом Ричардом Баллардом, президентом Йельской кооперативной корпорации, проследил судьбу Макгуина, того студента.
Для негра судьба удивительная—тем более в те годы. Макгуин блистательно оправдал заботу Марка Твена. В 1887 году он с успехом кончает университет и редактирует негритянскую газету в Канзас-Сити. В 90-х годах занимается юридической практикой в Балтиморе, где возглавляет также местный филиал Национальной ассоциации за прогресс цветного населения.
1917 год. Уорнер Макгуин одерживает громкую профессиональную победу. В федеральном суде Балтимора он выигрывает процесс против решения властей об обязательной сегрегации городских жилищ. «Он был одним из величайших американских юристов,— вспоминает Тергуд Маршалл, ныне адъюнкт-судья Верховного суда США.— Если бы он был белым, наверняка стал бы судьей».
Человеколюбие Твена родило борца за права своего народа.
Здесь мне видится и разгадка того, чем волнует творчество Твена американского читателя середины 80-х годов XX века. Согласна ли моя собеседница?
Д-р Фишер-Фишкин не отвечает прямо на мой вопрос. Она словно размышляет над тем, что необъятно, к чему лишь можно прикоснуться, пока оно, это необозримое духовное наследие Твена, еще ждет своих толкователей.
— По-моему, Твен по сей день не потерял поразительной способности вовлекать читателя в глубокие раздумья о нравственности,— говорит ученый.— Что именно морально? Что справедливо? По Твену, это чувство может сильно расходиться с законами страны. Тот же Гек Финн должен нарушать законы, чтобы его поступки отвечали его собственному нравственному мироощущению. Иначе говоря, и в наше время моральный долг американца простирается куда дальше жесткого статус-кво...
Профессор говорит, что творчество Твена до сих пор согревает своим теплом, человеколюбием. В читателе пробуждается неведомая ранее тяга к общению, к тому, чтобы выбраться из собственной скорлупы и помочь другому.
Но одно ее замечание удивляет меня:
— Книги Твена дают примерно то же, что иным дают молитвы...
— Молитвы? Но кто, как не Твен, ядовито насмехался над церковниками? Кстати, не кажется ли вам, профессор, что иные разновидности зла, на которых оттачивал свою иронию Твен, в наши дни разрослись и еще больше угрожают личным свободам американцев? Скажем, тот же религиозный фанатизм. Разве социологов не пугает атака религии на здешнюю демократию?
Нет, Твен не порицал церковь ради порицания церкви, возражает моя собеседница. Церковь угодила под его перо только потому, что старалась узаконить рабовладение. Нет, на самом деле Твен не против религии...
Я не возражаю. Я прощаюсь с нелегким чувством, что мне еще надо разобраться, понять, почему ведущий исследователь творчества Твена в беседе с советским журналистом тоже клонит к тому, чтобы размыть, округлить гражданские позиции автора «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», «Пересмотренного катехизиса» и «Письма ангела-хранителя»?
Не съездить ли в Хартфорд? Не подышать ли воздухом твеновской обители?
...Город Хартфорд—на полпути из Нью-Йорка в Бостон. Сегодня Твен не сказал бы о нем, как в 1873 году: «Каждый дом находится в центре зеленого участка величиной примерно в акр...»
Хартфорд наших дней — это футуристическое нагромождение облицованных зеркальным стеклом кубов, цилиндров и прочих геометрических фигур, иссеченное лабиринтами улиц на разных уровнях. Этакая многоярусная космическая станция XXI века — но пока на Земле.
Обитает же здесь по-прежнему крупный капитал. Хартфорд как был при Твене центром страхового бизнеса, так и остался.
Напоминающий очертаниями колесный пароход с Миссисипи дом словно несет быстрым речным течением через улицу, прямо на протестантскую церковь. Особняк из красного кирпича как бы выкрикивает в лицо храму еретические слова своего хозяина:
«Церковь тем постоянно и держится, что она — враг прогресса и ставит рогатки на его пути... Все, что церковь проклинает,—живет, все, чему она противится,— расцветает».
И еще:
«— Что есть бог,единственный и истинный?
— Бог—это деньги. Золото, банкноты, акции — отец, сын и святой дух, единый в трех лицах. Вот что такое истинный и единственный бог, всемогущий и всевышний...»
Этот божок с таким азартом правит в сувенирной лавке при музее, что кажется: нет, это музей — при лавке. Подсвечники, чепцы, пудреницы, все викторианское... А где же Твен? Нет, стоит рядок книжек в мягкой обложке. По-воскресному шумный папа подводит к полке нечто долговязое, джинсовое:
— Вот, сынок, этот писатель и написал знаменитого Гекльберри Сойера. Вырастешь большим, почитаешь...
Потом нас ведут послушным косяком к твеновскому дому. Гид живо жестикулирует и открывает рот, но как будто за стеклом аквариума — ничего не слышно. Вокруг ревет, наползает на кирпичный особняк-пароход, простирает в небо какие-то выдвижные лестницы и гигантские стрелы-ухваты ультрасовременная строительная техника. Воет бензиновая электропила. Что они собрались натворить, господи помилуй?
Гид прогуливает нас по комнатам, где вместе с Твеном 21 год делила кров таинственная незнакомка — вдохновение. Ветви библейских дубов-великанов тянутся к окнам, кажется, вот-вот отворят. Не из их ли настоянного на солнце шепота и рождался твеновский смех?
Гид деловито объясняет, что почем. Хрустальная люстра очень дорогая, но вот эта резная венецианская кровать и того дороже. Писатель жил «богатым» домом. Какого надрыва, какой лекторской каторги стоило это Твену, ни гид, ни брошюрка-путеводитель не сообщают.
Внизу в подвале застыла чугунным сфинксом знаменитая типографская машина Пейджа. Писатель вложил в нее уйму денег, а та за всю свою механическую жизнь только и напечатала, что пару-другую страничек.
Как бы поразился Твен, думаю я, как бы порадовался техническому гению нынешней Америки, всем этим компьютерам, космическим сателлитам, этой электронно-информационной стихии, превратившей журналистику, все печатное дело в молниеносный «процесс обработки слов».
Но прогресс не без жертв. Наверное, великий гуманист заметил бы странную вещь: в информационный век — как в «позолоченный век». Американцы разъединены духовно теперь еще глубже. Атмосфера «нового патриотизма», от которого несет потом морских пехотинцев, была бы, наверное, невыносимой для человека, который как-то сказал о себе репортерам: «И вот я—антиимпериалист».
В своем «Приветствии XIX века XX веку» Твен проклинал «семью христианских держав, которая возвращается испачканной, замаранной и обесчещенной из своих пиратских налетов на Кьяо-Чао, Маньчжурию, Южную Африку и Филиппины». Какие бы убийственные памфлеты создал американский сатирик после Вьетнама и после Гренады! Не гренадскую ли авантюру, этакое «спасение» островка американскими колонистами, предсказал он своей притчей «Великая революция в Питкерне»?
Юбилейная Америка чествовала воскового Сэмюэля Клеменса. А твеновское наследие гуманизма, свободолюбия и социальной справедливости изгоняется, вымывается из духовной жизни страны.
Попробуй скажи сегодня, что писатель не симпатизировал церкви, если фундаментальный клерикализм проник даже в Белый дом. Попробуй заикнись, что, по мнению Твена, США «запятнали флаг» на Филиппинских островах, если администрация готовит кое-что почище в Никарагуа.
А антисоветизм? Он стал здесь в конце 80-х своего рода «творческим направлением». Тысячи миль кодаковской пленки изводят на то, чтобы унизить, оклеветать Советский Союз и советских людей в таких фильмах, как «Америка», «Красный рассвет», «Белые ночи» и прочих образчиках голливудского ширпотреба.
В таких условиях иной американский литератор побоится сесть за один стол с коллегой из России, как это сделали Марк Твен и Максим Горький в 1906 году.
Горький вспоминает такую фразу писателя в той его речи:
— Потом мы стали кое-что понимать — баррикады в Москве, это нам понятно. Их строят ведь, собственно, не ради долларов,—так я говорю?
А еще раньше Твен писал русскому революционеру С. М. Степняку-Кравчинскому насчет его книги «Подпольная Россия» о русском революционном движении:
«Я прочитал «Подпольную Россию» от начала до конца с глубоким, жгучим интересом. Какое величие души! Я думаю, только жестокий русский деспотизм мог породить таких людей! По доброй воле пойти на жизнь, полную мучений, и в конце концов на смерть только ради блага других—такого мученичества, я думаю, не знала ни одна страна, кроме России».
Так что симпатии к русской революции, понимание, ради чего возводились «баррикады в Москве»,— это тоже Твен.
О многом ты забыла, Америка, суетливо справившая твеновский юбилей без Марка Твена!
Вот о чем думалось мне, когда под ногами скрипели половицы старого, напоминающего пароход с Миссисипи дома на окраине Хартфорда.
...Наконец гид сложил с себя пастушьи заботы и выпустил нас на волю. Я вышел, глотнул осенней прохлады и поразился—до чего тихо. Подъемные краны застыли. Бензопила смолкла.
Так вот что они наделали! Библейский дуб-великан, что стоял часовым у дома Твена, был свален под корень, его ствол с двумя торчащими в стороны обрубками лежал у дороги.
Как распятие после Голгофы.

16 Завещание “Чэлленджера“
Когда происходит такое, мы уж тут не русские и не американцы. Мы люди...
Елена, работница московской фабрики
Космическая Жанна д'Арк
Наверное, у дельфинов все-таки человеческий разум. Наверное, эти таинственные подводные братья наши тоже могут горевать.
Символическое это было, пронзившее души американцев зрелище. Когда в день официальной панихиды вертолет сбросил в океан венок и семь красных гвоздик, из пенистой бирюзы волн взметнулись в воздух гигантские гибкие тела.
Сама природа, кажется, почтила память погибших астронавтов. Было ровно 11.39 утра. Тот самый миг, когда несколько дней назад в безупречной голубизне флоридского неба, на глазах у всей страны накрыла себя белым саваном горячего пара и огня американская мечта.
Спорьте со мной, но «Чэлленджер» все-таки был одним из олицетворений этой мечты. А может быть, даже специально сконструированной мечтой. Каждый раз, когда рев двигателей с экранов телевизоров возвещал о новом космическом старте, кто из американцев украдкой не оглядывался на остальной мир: «Видят ли? Чуют ли многотонное, несокрушимое торжество американского технологического чуда? То-то».
Слияние корабля и общественных грез дошло до предела в последнем запуске «Чэлленджера», в так называемой миссии 51-L. Америка упивалась своим отражением в стальной капле. Три белых астронавта, один негр, один с Гавайских островов с азиатской кровью в жилах, две женщины. Разве это не страна в миниатюре, вознесенная выше всех других на грохочущей огненной струе отечественного гения?
Да, Америка, ты думала об этом.
Социологи сейчас толкуют твои мысли прозаичным языком науки.
— «Шаттл» играл центральную роль в нашей коллективной фантазии, как символ американской мечты,— признает Марди Хоровиц, ведущий эксперт в области психологических последствий катастроф.—Это впечатанный в нашу голову образ американской мощи...
И иллюзии доступности этой мощи для простого американца, у которого тоже-де есть на нее права.
Когда Патрик Бьюкенен, директор отдела связи Белого дома, ворвался в Овальный кабинет с криком: «Сэр, «Шаттл» взорвался!», ошеломленный президент встал с кресла:
— Какая трагедия! Это тот «Шаттл», на котором была учительница?
Да, тот. На протяжении долгих месяцев «Чэлленджер» был для всей Америки тем самым космическим кораблем, «на котором полетит учительница». А 37-летняя Криста Маколифф, преподаватель обществоведения из города Конкорд, что в штате Нью-Гэмпшир, воспринималась трудовой, без солидных банковских счетов Америкой как космическая Жанна д'Арк. Как народный посол в отдаленном царстве астротехники и придворного чиновничества.
Так оно и было задумано. Идея запустить «чисто гражданского наблюдателя» явилась Джеймсу Беггсу, администратору Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), еще в 1983 году, когда программу «Шаттла» начали душить финансовые трудности. Нужно было срочно оживить интерес налогоплательщика. Пощекотать воображение слишком закосневших в своей скупости конгрессменов.
Сам Беггс не дотянул до осуществления своей идеи. С декабря 1985 года местом его постоянного пребывания стала не НАСА, а тюрьма. Бывшему администратору припомнили старые делишки — попытку надуть Пентагон на каком-то военном контракте.
Но Криста Маколифф, та оказалась золотым самородком. Выбранная из 11 тысяч претендентов, она была духовно богаче и по-человечески выше той корыстной задачи, к которой ее хотели приспособить.
Страна от мала до велика влюбилась в эту темноволосую, с каким-то детским, распахнутым взглядом женщину, мать, домохозяйку—плоть от плоти народа. Она поклялась приблизить звезды к обыкновенной Америке, водрузить чудеса космоса на ее семейный стол, как какой-нибудь домашний пирог.
Этим-то она и была неотразима. И еще тем, что мгновенная слава, обеды в Белом доме и внимание прессы нисколько не испортили эту чистую душу.
А последние месяцы Криста жила, как в стеклянном аквариуме. Все знали о ней все. Что ее муж Стивен, юрист, работает в конторе у генерального прокурора Нью-Гэмпшира.
Что у них двое детей, старшему, Скотту,—девять, а младшенькой, Кэролин,— шесть. Дочка все не могла понять, куда это собирается мама, и названивала ей каждый день в Хьюстон, в космический центр, где шли тренировки: «Мам, а мам, ты уже в космосе?»
Знала страна и что Криста — мастер на все руки, везде успевает. Любит волейбол, поет в клубном хоре. В свободный час — откуда только он у нее?!—глядишь, заскочит добровольной нянькой в городской дом для престарелых. А то собирает пожертвования на нужды больницы.
Еще одно, удивительное, было в Кристе Маколифф — ее чувство будущего. Даже в малом. Когда она ждала первого ребенка, то стала вести дневник. Исписала такой обычный блокнотик на пружинках: что советует доктор, кто сегодня приходил, что натворили кошки. «Зачем тебе это, Крис?»— «Это летопись для моих детей. Как было бы здорово, если бы я могла сложить из таких строчек жизнь моей мамы...»
Ее собственный космический старт тоже казался Кристе словом в летописи. Но теперь уже для всех детей Америки.
— Надеюсь,— говорила она,— мои ученики скажут: смотрите, вот простая учительница, а тоже вложила свою крупицу в историю. Если они сопоставят эти две вещи, сведут их вместе, значит, у них вспыхнет интерес к истории. И к будущему...
Криста готовилась к полету три месяца. Там, на орбите, откуда Земля кажется школьным глобусом, она должна была дать два 15-минутных урока. Класс — вся юная Америка, прильнувшая к телеэкранам.
Одно занятие намечалось как экскурсия по «Шаттлу»: какие приборы на борту, чем занимаются астронавты. Второму уроку Криста придумала философское название: «Где мы были, куда мы идем, почему?!». Это о том, на какие вершины разума поднимает нас мирное исследование звездных далей.
Благородная, запавшая в каждую незачерствевшую душу мечта была у Кристы Маколифф.
Только на осуществление этой мечты кто-то отпустил всего 73 секунды. Космическая летопись простой американки оборвалась отчаянным росчерком «Чэлленджера» на синеве флоридского неба.
Урок прошел не по плану.
Миллионы детей смотрели в этот миг на телевизионные экраны. А миллионы взрослых смотрели на завороженные, со звездным отблеском в глазах, лица своих детей
Страшная трагедия была помножена на страшную силу американского телевидения. Космическая техника ударила лицом в грязь, но телевизионная вознеслась на вершину своего торжества. Этически сомнительного, в чем-то неловкого, даже постыдного — но торжества.
Имеем ли мы право целыми днями разглядывать, дробить на кадры, анализировать в замедленной видеозаписи, укрупнять телеобъективом и высвечивать юпитерами слезу? Ту, что ползет по лицу человека, когда на глазах у него превращается в столб белого пара плоть от плоти его? Где граница между гениальным репортажем и забвением морали?
Ответ, мне кажется, не так прост.
Проще, конечно, проклясть этих бесстыдных грифов американской журналистики, терзающих свои жертвы, влезающих наживы ради микрофоном в рану.
Но это было бы полуправдой. Ошеломленные трагедией, здешние «энкермэны», то есть ведущие телевизионных программ, вдруг обрели порой несвойственный им такт. С экрана исчезли рекламные ролики, на чем телесети потеряли 9 миллионов.
Скорбь здесь тоже считают на доллары.
Но, быть может, именно благодаря этой телевизионной скорби Америка вдруг с радостью изумления — да, да, как ни кощунственно звучит это в миг траура,— с радостью открыла, что она еще может чувствовать боль, может сопереживать всем народам, как единая, нерасколотая нация.
Боль Вьетнама разрезала страну пополам. Позор Уотергейта—тоже. По зову к единству, по невиданному эффекту сплочения гибель «Чэлленджера», думается мне, навсегда останется редким, незабываемым днем в истории Штатов.
...Холодное солнечное утро. Трибуны для почетных гостей близ стартовой площадки 39-В на мысе Канаверал. Седая, коротко стриженная женщина в белой шубке. Пожилой мужчина с раскрасневшимся от ветра, размашисто вылепленным природой лицом. На плаще у него — большой круглый значок с портретом Кристы.
Это родители Кристы — Грейс и Эдвард Корригэн. Стеклянный глаз телекамеры следит за ними, как коршун за жертвой. Тысячи студийных видеомагнитофонов запоминают в натуральнейшем цвете каждый блик на зрачке, каждое содрогание ресниц.
Голос комментатора НАСА, усиленный громкоговорителями:
— Три, два, один... Подъем. Взлет 25-го рейса «Шаттла». Отделение от башни...
Два лица в кадре не так оживлены, как лица вокруг. Они словно в какой-то изолированной пустоте, вокруг которой витает, бьется о невидимую преграду, но не может проникнуть в это душевное уединение восторженный гам, визг дудок, ликующий свист. Эдвард особенно напряжен, он словно предчувствует немыслимое.
Голос комментатора:
— Одна минута 15 секунд, скорость 2900 футов в секунду, высота...
Комментатор смотрит не на тот экран. Он еще не знает, что мгновение назад «Чэлленджер» исчез в чудовищном клубе пара и огня. Отброшенные взрывом в стороны, осиротелые ракеты издевательски вытягивают облако в подобие буквы «V» — символа торжества и победы.
Эдвард медленно кладет руку на плечо жене. Глаза Грейс светятся радостью — какой-то миг она не понимает, что происходит. Не понимают и трибуны, в недоумении вся Америка. Миллионы людей полагают, что это нормальный сброс отработавших свое ускорителей.
Грейс приникает головой к плечу мужа. На ее лице — страшная, выворачивающая душу, сотрясающая все ее существо гамма чувств — через удивление к прозрению и к безграничному материнскому горю.
— РТЛС! РТЛС!—кричит инженер НАСА Джим Майзел, оказавшийся на гостевой трибуне.
Эта профессиональная аббревиатура означает аварийный возврат корабля на посадочную площадку. Группа фотографов кидается в сторону аэродрома. Но столб дыма в небе неподвижен, безмолвен. Из него сыплются, оставляя за собой белый шлейф, мелкие обломки.
«Чэлленджер» никогда не вернет людям свой экипаж, эту маленькую Америку с ее отвагой, технической дерзостью и талантом колонистов дальних далей.
Здесь слова бессильны. Телевизионная картинка, напротив, всемогуща. И обыватель не в силах отклеиться от экрана, хотя краешком сознания угадывает, как много в этом подглядывании за личной бедой запретного, постыдного...
Да, публичная смерть «Чэлленджера» сплотила страну. Но она же показала Америку Америке с другой, обычно невидимой стороны.
В тот же самый траурный день 28 января 1986 года на телестудии обрушился потоп телефонных звонков. Где «Даллас»? Почему не крутят «Династию»? Долго ли еще придется дожидаться из-за этой треклятой космической аварии «Пароход для влюбленных»?
Речь шла о вытесненных трауром «мыльных операх», бесконечных телевизионных сериалах, где прекрасно одетые, очень красивые, очень богатые персонажи женятся, чтобы развестись, изменяют, чтобы вернуться к семейному очагу, и так без конца, из года в год варятся в бульоне из крупно накрошенных сценаристом страданий.
Популярность «мыльных опер» известна. Но кто знал, что для тысяч американцев этот бутафорский экранный мирок более реален, чем наш белый свет, где штурмуют космос?
Американское ТВ впервые столкнулось с бунтом порожденных им людей-зомби.
Весть о катастрофе настигла меня на автовыставке. Вернувшись с какого-то интервью и еще не зная, что стряслось, я решил заскочить в нью-йоркский «Колизеум», отданный на неделю международным автофирмам.
В углу зала красовался неимоверной длины лимузин, разрезанный для лучшего обозрения пополам. Обозревать было что: бар, радиотелефон, вибрирующая кровать, телевизор... На его экране каждые пять минут взрывался «Чэлленджер»—за неимением свежих новостей передавали повторы. После трагедии прошло лишь часа полтора.
На телевизионную картинку никто не обращал внимания. Люди щупали огненный сафьян сидений, примерялись к кровати, нежно ли трясет. В центре зала на эстраде лихо отщелкивали чечетку три негра в красных смокингах. Динамики рвали барабанные перепонки: «О, «шевроле», «шевроле», как я люблю тебя, мой сексуальный «шевроле»...»
А в углу какой-то заплывший жиром, рыгающий запахом пива детина уже ухмылялся, пересказывая наисвежайший, только что испеченный анекдот:
— Знаете, почему на «Шаттле» был только один негр? Не ожидали, что взорвется...
Божку коммерции было явно не до траура.
Призыв к очищению
Но это, конечно, не вся Америка.
Шла неделя за неделей, после того как страна приспустила государственные флаги, а она только-только начинала стряхивать с себя оцепенение, вызванное тягостным зрелищем вдруг испарившегося «Шаттла».
Вместе с ним, бесспорно, испарился добрый кусок американской мечты, веры людей в прелести системы.
«Пробуждение несет с собой чувство того, что мир рушится, — жалуется социолог Дэниел Коулмен.— Мы не думали, что наши институты могут предать нас таким драматическим образом. Это шокирующий символ хрупкости наших надежд, американской технологии...»
Символы в те дни лечили символами. Автомобилисты ездили днем с зажженными в знак траура фарами. Звонили колокола церквей, неслись похоронные джазовые ритмы из негритянских приходов. Откликаясь на идею местных радиостанций, 20 тысяч жителей Флориды вышли ночью к океану с горящими свечами.
Из окна корпункта я не видел по вечерам многоцветного ожерелья на небоскребе Эмпайр стейт билдинг—огни притушили. С конька колледжа в штате Массачусетс—там когда-то училась Криста Маколифф — рвались к небу семь черных воздушных шаров.
Страна не только скорбела. Самочинно, а то и по задумке ловких дельцов, возникали различные фонды помощи семьям погибших астронавтов, самой космической программе НАСА. Дойдут ли туда деньги — было неизвестно. Кое-что, правда, доходило. Школьники всей Америки отправляли в адрес НАСА пятицентовики, гривенники, четвертаки. Собирали на строительство нового «Шаттла». Финансисты НАСА уныло качали головами: в каком тысячелетии набежит 2 миллиарда?
Но скорбь и прилив филантропии скоро отступили на задний план перед чувством, которое можно назвать ссадиной на национальной гордости.
Кто, как мог допустить, что триумфальное чудо американской технологии вдруг превратилось в дождь обломков? В этом вопросе все громче звучала гражданственная, патриотическая нота.
Чисто техническая причина аварии сразу перестала быть тайной.
Первой уликой, которая навела на след, стала видеозапись полета «Чэлленджера», обнародованная пресс-службой НАСА. До этого все журналистские фотографии и телефильмы были сделаны с левой стороны космического «челнока». Видеокамеры НАСА были нацелены и на правую, скрытую от репортерского глаза сторону
Трагедия угадывается в кадре, соответствующем 59-й секунде полета. В нижней части правой ракеты-ускорителя, работающей на твердом топливе, отчетливо видно облачко черного дыма. Мигом позже из корпуса уже вырывается хвост пламени. Еще несколько секунд—и изображение пропадает в адской вспышке.
Видеоулику подтвердила телеметрия. Последние данные, полученные с «Шаттла» по радио 73,621 секунды спустя после старта, зарегистрировали спад тяги в правой ракете-ускорителе. Потом последовала остановка трех главных двигателей «Чэлленджера» — прекратилась подача горючего.
Отсюда теория, которую полностью подтвердила специальная президентская комиссия по расследованию аварии «Шаттла» во главе с Уильямом Роджерсом, бывшим госсекретарем США. Виноваты кольцевые уплотнительные прокладки на стыке нижних секций правой ракеты-ускорителя.
Раскаленные газы прорвались сквозь стык наружу и сработали как сверхмощный автоген. Они прожгли сталь обшивки толщиной 2,5 см. Потом расплавили трубопровод, подающий топливо в двигатели «Шаттла». Взрыв 383 тысяч галлонов жидкого водорода и 143 тысяч галлонов жидкого кислорода, хранящихся в гигантском внешнем баке, в обнимку с которым взлетает «Шаттл», не заставил себя ждать.
Комиссия Роджерса выяснила также кое-что другое. Оказывается, руководство НАСА с 1977 года знало: уплотнители ненадежны. Но отмахивалось от этой серьезнейшей проблемы, как от надоедливой мухи.
Еще в январе 1985-го космический корабль «Дискавери» едва избежал аналогичной катастрофы. Осматривая корпус ракеты-ускорителя после полета, техники обнаружили, что одно из уплотнительных колец прогорело, пропустив газовую струю. Но НАСА не вняло предупреждению судьбы. Соображения коммерческой выгоды, и особенно давление военщины, заинтересованной в экспериментах на «Шаттле», перевесили на чьих-то моральных весах ценность человеческой жизни.
Между тем аварийные сигналы множились. В июле 1985 года сотрудник НАСА Ричард Кук написал докладную записку, где предупредил: если конструкция уплотнителей не будет изменена, ждите беды. Записку спустили в архив.
Несколькими неделями позже Роджер Бойсджоли, эксперт компании «Мортон тайакол»,— именно она производит ракеты на твердом топливе — представил шефам рапорт примерно такого же содержания. Если уплотнительные кольца не выдержат, писал он, «результатом будет катастрофа высшего порядка — с потерей человеческих жизней». С мнением Бойсджоли тоже не посчитались.
Инженеров, работающих на заводе «Мортон тайакол» в штате Юта и в космических центрах НАСА, преследовало ощущение: астронавты обречены. Какая-то административная сила явно была готова пренебречь их безопасностью.
За день до запуска «Чэлленджера» Эллен Макдональд, представитель «Мортон тайакол» на мысе Канаверал, потребовал провести телевизионную «летучку». Он настаивал:
— Чертовские холода! Ни у кого из нас нет никакой уверенности. Ни в чем...
Речь шла об уже известном, уплотнительные кольца не были рассчитаны на работу при низкой температуре. Резина твердела, кольцо медленнее восстанавливало свою форму после перегрузок. А в ночь на 28 января на Флориду как раз нагрянул, по тамошним меркам, жестокий мороз. Температура в районе стартовой площадки 39-В упала ниже точки замерзания. С пусковой фермы свисали сосульки...
— Бог ты мой, «Тайакол»! Когда я должен, по-вашему, разрешить запуск? В апреле?
Эта раздраженная фраза Лоуренса Маллоя, одного из руководителей НАСА, положила конец дебатам. И подписала смертный приговор семерке астронавтов. Чиновничество отправило «Чэлленджер» навстречу гибели...
Все это оживленно перемывалось в те дни газетами, телестанциями. В технические мелочи влезали даже те, кто дома не берется чинить электровыключатель.
Кое-что, правда, американцам, переживающим за технический престиж своей страны, непонятно по сей день. Никак не возьмут они многого в толк. Почему, скажем, космический корабль не был оборудован датчиками, которые могли уловить разогрев и загорание внешней обшивки ракеты? В гостинице «Хилтон» примерно такие датчики — в каждом коридоре. А НАСА на них поскупилось.
15 роковых секунд от прорыва уплотнителя до катастрофы— это, как считают специалисты, уйма времени в наш технотронный век. Получив сигнал тревоги, компьютеры могли бы мгновенно отделить «Челленджер» от громадины внешнего топливного бака и перевести корабль в режим аварийного спасения. Как сказал один бывалый астронавт, «это лучше, чем верная смерть».
Но бортовые ЭВМ не были запрограммированы на такую неожиданность. Ни командир «Чэлленджера» Фрэнсис Скоби, ни пилот Майкл Смит не знали, что впереди их ждет что-то еще, кроме безмятежной сини флоридского неба.
За всем этим маячат куда более серьезные вещи. Америка осознала сейчас, задним числом, что на 25 полетах кораблей типа «Шаттл» лежала печать поспешности, подчинения норм безопасности коммерческой выгоде, интересам рекламы так называемого американского чуда и, наконец,— а может быть, в первую очередь — интересам Пентагона.
Кто, например, готовит космические «челноки» к запуску, инспектирует их после полетов, ремонтирует? НАСА?
Нет, частная «Локхид спейс оперейшнс компани». В 1983 году она выдрала этот лакомый контракт— 15 лет, 6 миллиардов долларов — из зубов «Рокуэлл Интернэшнл». Те же самые дельцы, кто норовил всучить Пентагону слесарный молоток за 700 долларов, сейчас обеспечивают штурм человеком космоса по принципу: с нас—нитку, с вас — рубашку.
Америка с ужасом узнала, что в последние месяцы программу «челнока» терзала авария за аварией. 8 ноября 1985 года монтажники «Локхида» в безалаберной спешке повредили краном ракету-ускоритель. Еще раньше, в марте, они же уронили на корабль металлическую люльку, искалечили его на 200 тысяч долларов. Вот тебе и стражи безопасности!
Низкая квалификация людей из «Локхида», их презрение к техническим нормам — еще не вся беда. Главный частнособственнический принцип был сформулирован анонимным, но, видать, довольно честным монтажником так:
«Мы этот их «Чэлленджер» обслуживали только, чтоб зад ему прикрыть...»
А ведь в старые добрые времена программа «Шаттла» считалась синонимом патриотизма. В 1969 году, когда ее придумали, речь шла об уникальном «космическом грузовике», который будет доставлять людей и технику на орбитальную станцию. Где станция? Где грузовик?
Первоначальный замысел был изуродован еще в зародыше Пентагоном. Орбитальный корабль стал в конце концов придворной каретой военного ведомства, в которой тот выкатывает поближе к звездам новые образцы оружия.
«Пентагон полностью полагается на «Шаттлы» в том, что касается экспериментов, связанных со стратегической оборонной инициативой, как формально именуется программа «звездных войн», а также с выводом на орбиту спутников, жизненно необходимых для современных вооружений»,— писал еженедельник «Тайм».
Признание важное. Под национальным трауром крылась официальная кручина, о которой в Вашингтоне предпочитали молчать. Эту черную ленту на рукаве мундира не выставили напоказ.
В бирюзовом небе сгорел, испарился в огненном смерче тезис американской администрации о возможности создания «непробиваемого космического щита». Того, что будто бы укроет США, а потом и весь благодарный мир от чьей-то ядерной атаки. Катастрофа на мысе Канаверал напомнила: космос должен остаться обителью мира. Если обычный, почти рутинный запуск обернулся таким национальным потрясением, то чем может кончиться попытка повесить над Землей сонм сенсоров, смертоносных лазеров и боевых станций?
Запустить тогда черные воздушные шары в память о сгоревшем человечестве будет некому.
Вашингтон, ясное дело, ощутил этот сокрушительный удар по своим планам милитаризации космоса. И среагировал с кощунственной молниеносностью. В том же самом траурном номере «Нью-Йорк таймс», на чьи страницы упала слеза не одного читателя, тиснули статейку Билла Келлера под названием «Программа ракетного щита получает первоочередность у Пентагона». В статье взяли, да и рассекретили документ «Основные направления обороны», где военное ведомство клянется не срезать ни доллара с бюджета «звездных войн».
Такие бумаги не попадают в прессу случайно. Это явная попытка спасти СОИ от падающих на нее обломков «Чэлленджера».
Звездные одиссеи и «звездные войны» несовместимы. Но в своем «Послании о положении страны», отложенном на неделю именно по случаю траура, президент США опять попытался приклепать броню к программе космических исследований. Сначала он помянул героев-астронавтов:
— Мы готовы совершить сегодня то, что они хотели бы, чтобы мы совершили: вперед, Америка, к звездам!
Но с чем к звездам? Об этом говорится в самом конце «Послания» — возможно, чтобы мало кому пришла в голову мысль сопоставить. Вот этот пассаж: «В один прекрасный день щит безопасности сделает ядерное оружие бессмысленным и освободит человечество из тюрьмы ядерного террора». То есть к звездам — но со смертоносными рентгеновскими лазерами, с орбитальными базами Пентагона.
Нежелание уяснить главный урок «Чэлленджера» было проштемпелевано военным бюджетом США на 1987 финансовый год. Расходы на «звездные войны» подскочили на 75 процентов. «Космический щит» выкарабкался на первое место среди всех военных программ.
Моменты ошеломляющих национальных трагедий дают немало пищи для размышлений над некоторыми, казалось бы, уже давно знакомыми особенностями здешней общественной психологии.
Сразу после гибели «Шаттла» комментатор телесети Си-би-эс взял интервью у Роберта Джэстроу, одного из экспертов НАСА.
— Ваша версия, д-р Джэстроу? Почему «Чэлленджер» взорвался?
— Ну, знаете, если русские крадут наши технические секреты, то нет ничего удивительного, если они... От них всего можно ждать...
— Саботаж? Уж не имеете ли вы в виду саботаж?
— Вполне возможно...
Еще интервью по тому же телевизионному каналу. Репортер разговаривает со случайным прохожим, исследует, так сказать, мнение улицы.
— О чем вам подумалось, когда узнали о катастрофе?
— Подумал, вот русские порадуются, вот у них сегодня праздник...
Но вскоре из Москвы пришли видеорепортажи американских корреспондентов. Улица. Женщина в полушалке. Горюет над газетой «Правда», где напечатано соболезнование М. С. Горбачева. Женщину зовут Елена, простая работница фабрики.
— Когда происходит такое,— говорит она, по-московски акая,— мы уж тут не русские и не американцы. Мы люди. Мы скорбим о тех, кто погиб, и делим горе с их близкими...
В НАСА пришла коллективная телеграмма соболезнования от советских космонавтов. Советские картографы предложили назвать два кратера Венеры именами женщин-астронавтов Кристы Маколифф и Джудит Резник. Венера ведь считается богиней красоты. «Удивительный жест!» — недоверчиво воскликнул еженедельник «Тайм».
А что тут удивительного? Почему кого-то здесь берет оторопь, что советский народ разделил горе Америки, почтил память мужественных пионеров, дерзко вторгающихся во все еще загадочную, таящую неисчислимые опасности обитель звезд? Откуда этот спазм инстинктивного антисоветизма? Тем более в минуту, когда бы, кажется, не о том надо думать...
Что ты, Америка, сеешь, то и пожинаешь. Рэмбо и Роки, расстреливающие и избивающие русских до потери сознания, заодно крепко повредили и сознание американскому обывателю.
В греческой трагедии есть понятие катарсиса — очищения, прозрения в минуты крайних эмоциональных потрясений. Прощальный трагический автограф «Чэлленджера» на флоридском небе зовет человечество к тому, чтобы очистить Землю от недоверия и ненависти. Советско-американские отношения — в первую очередь. Мир слишком мал, ответственность держав — лидеров двух систем за сохранение цивилизации — слишком высока.
И нужно во что бы то ни стало спасти от этих зол — ненависти, недоверия — космос.
Что может быть лучшим памятником героям-астронавтам?
Пусть рядом со звездами никогда не прозвучат слова воинственнее тех, что сказала Криста Маколифф:
— Я прикасаюсь к будущему. Я учу...
Редактор О.И.Жилина.
Младший редактор С.А Морозов.
Художественный редактор А. И.Хисиминдинов.
Технический редактор Н. М.Ладик.
Корректор И. О. Гелашвили
Технолог П. С. Туманова.
ИБ 9085
Сдано в набор 27.04.87. Подписано в печать 04.09 87 T 07236 Формат издания
84 x 108/32. Бумага офсетная Гарнитура Универс Печать офсет. Усл печ л 23,1.
Уч.-изд. л. 28,12. Тираж 100000 экз. Заказ № 574 Изд № 7340. Цена 1 р 60 к. Издательство Агентства печати Новости 107082, Москва, Б Почтовая ул , 7.
Типография Издательства Агентства печати Новости 107005, Москва, ул. ф Энгельса, 46.
Размышления у треснувшего колокола (вместо предисловия)

Боль, которую тебе не забыть, Америка. 13 мая 1985 года полиция сбросила зажигательную бомбу на дом в бедняцком квартале Филадельфии, чтобы выкурить оттуда мятежную религиозную общину «Мув». Вот они, еще теплые руины.


Пока выносили обугленные тела, полиция арестовала негритянку Рамону Африка. Она одна осталась в живых из всех членов общины.
«Колокол независимости», хранящийся в Филадельфии,— это для туристов. По вольнодумцам звонят наручники.

1 Чудным утром в Гринсборо

Они называют себя «невидимой империей рыцарей ку-клукс-клана». На самом деле власти прекрасно знают о каждом их шаге. И используют эту энергию ненависти как только представится удобный случай. Например, в Гринсборо 3 ноября 1979 года.

Так все начиналось. Верджил Гриффин, «великий дракон» ККК в Северной Каролине (вверху второй слева), и Эдвард Досон, клановец, он же осведомитель ФБР (третий слева), спокойненько устраивали уличные парады своей рати.

Гэрольд Ковингтон, главарь местной нацистской партии, не слезал с фирменной трибуны.
Так все кончилось. Пятеро рабочих вожаков легли под белый мрамор на городском кладбище. Когда я сделал этот снимок, Марти Нэтан, вдова одного из пятерых, сказала: «Это наша жизнь...»

Тех, кто не встал с окровавленной травы в Гринсборо, объединяло схожее призвание — вести рабочий люд к осознанию преимуществ организованной борьбы. Стреляли не просто в людей. Стреляли в профсоюзное движение Америки.

Сэнди Смит, прядильщица.

Билл Сэмпсон, красильщик.

Тридцать девять залпов, зафиксированных видеомагнитофонами, пятеро убитых — а приговор? Выплатить жалкую сумму, которой едва хватило на адвокатов. Откупились от справедливости.

Джим Уоллер, закройщик.

Сизар Кос, оператор ЭВМ.

Майк Нэтан, воач.

2 Когда кончается карнавал


Нет в мире места беззаботней, чем Новый Орлеан в дни весеннего карнавала. Король и королева «Рекса», закрытого клуба богачей, осыпают толпу дарами. Веселись, голь!

Кому веселье на неделю, а кому — бизнес на всю жизнь. В ангарах на берегу Миссисипи хранятся сотни карнавальных платформ, несметное число маскарадных костюмов. Это карнавальная империя миллионера Блейка Керна. У него каждый божий день — «Жирный вторник».

Нигде в Америке не услышишь такой вдохновенный, неподдельный традиционный джаз, как здесь, в «Презервейшн холл» — «Зале памяти». А вне зала? Из родины джаза Новый Орлеан, похоже, превращается в его мавзолей.
Знакомьтесь — трамвай «Желание». Тот самый, из бессмертной пьесы Теннесси Уильямса. Маршрут упразднен, но трамвай успел въехать в историю.


Два лика Нового Орлеана. Коробки нефтяных компаний, змеи скоростных эстакад, спортзал «Супердром»...
И старый Французский квартал, обитель артистической богемы.

3 Механическое сердце и живые души


Первопроходец в неведомое. Барни Кларк, первый в мире человек с постоянным механическим сердцем, через три месяца после операции.
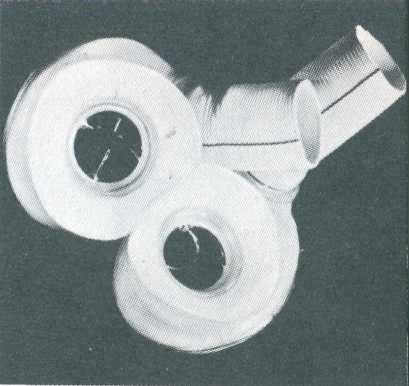
Этот кусок пластмассы поддерживал его жизнь в течение 112 дней.
И настал день, когда семья Уильяма Шредера вывезла его на прогулку. Дочь несет компрессор, питающий искусственное сердце отца сжатым воздухом. Живет человек или растение?

4 Сколько шагов до мечты?


Конгрессмены устроили в Нью-Йорке выездные слушания, выясняли: повинна ли полиция в расистских жестокостях или нет. Избитый, оскорбленный законом Гарлем исповедовался ему же, закону.
Ну и что? Снова «коп» считает негру ребра.
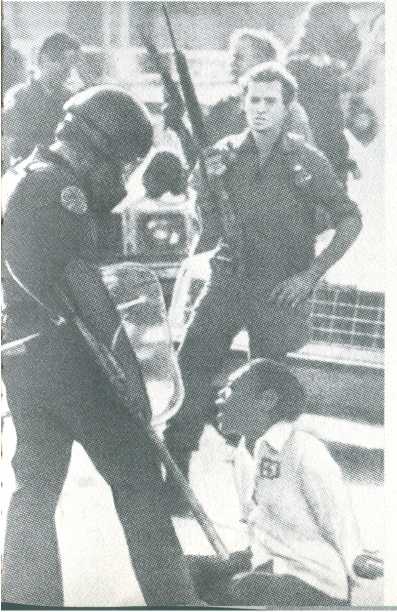

5 Взгляд на Бродвей



Сенсацией Бродвея стала антивоенная пьеса Артура Копита «Конец света с последующим симпозиумом». Ее персонажи (вверху) позднее обрели жизнь в советском телевизионном фильме.
Когда американский драматург приехал в Москву (внизу в центре), его встретили киноактеры Вадим Андреев и Эммануил Виторган.


Бродвей практически недоступен сегодня для молодых серьезных драматургов. Дэвид Мэмит (слева) — исключение. Его пьеса «Американский бизон» остросоциальна, остросюжетна. Но она вряд ли пробилась бы на бродвейские подмостки, если бы в ней не был занят модный киноактер Аль Пачино (внизу). Голливуд царит и на Бродвее.

6 Час в тюрьме у Леонарда Пелтиера
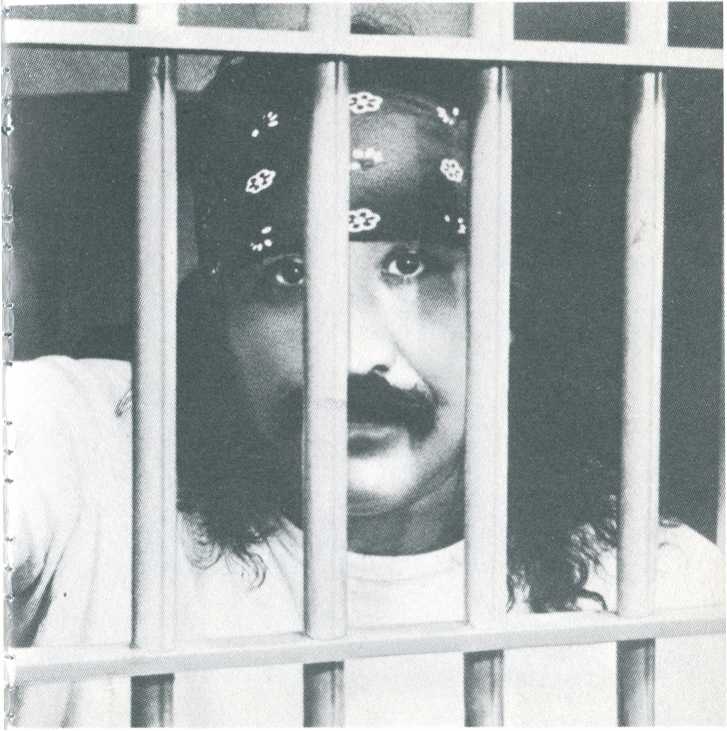

Эту служебную телеграмму утаили от суда, бросившего Леонарда Пелтиера в тюрьму на два пожизненных срока. А документ важнейший. Эксперт баллистической лаборатории ФБР признает там, что между ружьем Пелтиера и гильзами от пуль, которыми были убиты два агента ФБР, нет никакой связи. Обвинение сфабриковали с одной целью — убрать индейского вожака.

В той же перестрелке 26 июня 1975 года в резервации Пайн-Ридж, штат Южная Дакота, погиб восемнадцатилетний индеец Джо Килсрайт. Но ФБР пальцем не шевельнуло, чтобы расследовать это преступление. Сами казнили, какое уж тут следствие.

На карте США — оспины концентрационных лагерей, именуемых индейскими резервациями. Безработных здесь—90 процентов. Хронически голодают 75 процентов. Каждый третий новорожденный тут же умирает.
 Владимир Симонов. Иллюстрация 65">
Владимир Симонов. Иллюстрация 65">Такой образ жизни, точнее, существования заботливо охраняют вооруженные фэбээровцы.

Я сделал этот снимок в тюремном госпитале в городе Спрингфилд, штат Миссури. Леонард написал тогда в моем репортерском блокноте: «Мы, люди индейских племен, хотим протянуть руку дружбы советскому народу. Спасибо вам за вашу помощь и заботу. В духе Неистового коня, с любовью и пожеланиями мира — Леонард Пелтиер».
Неистовый конь — так звали великого индейского вождя конца XIX века, поднимавшего племена на борьбу с «бледнолицыми» колонизаторами. Его мятежный дух жив в сердце узника №89 637-132.

7 Яблочный пирог без яблок

На черном граните монумента вьетнамским ветеранам в Вашингтоне — 57 939 имен. Вечная память погибшим? Нет, скорее попытка реабилитировать вьетнамскую войну.

Целлулоидный реванш за вьетнамское поражение. Джон Рэмбо расстреливает «желтых комми» и «русских майоров» в фильме «Рэмбо. Первая кровь, часть вторая».
А тем временем модный нью-йоркский салон устроил конкурс его двойников. Победителям присвоили почетный титул «Дублеры убийцы».


Гримасы «нового патриотизма». Ночной бар в Хьюстоне, где официантки обслуживают с автоматами наперевес.
Что только не прикрывают сегодня звездно-полосатым...


Дэвид Райс, 27-летний безработный из Сиэтла, не вылезал из кинотеатра, где американский супермен Роки делает котлету из советского боксера. Внимал скороговорке телевизионного евангелиста: «Братья! Не пустим в свой дом дьявола коммунизма! И не замечал, как вся эта антикультура ненависти лепит из него свое слепое орудие.

8 Нет рая в Сан-Франциско


Если подняться в канатном трамвайчике на один из сорока холмов Сан-Франциско, то можно увидеть остров Алькатраз. Крепость-тюрьма для самых опасных гангстеров стала сегодня музеем. Выкладывай, турист, доллары за радость провести миг в той самой камере, где сидел знаменитый Аль Капоне!


Гарри Бриджес, «Яростный Гарри», прекрасно помнит те дни. В июле 1934 года он, молодой эмигрант из Австралии, вывел на улицы организованный им профсоюз — Международную ассоциацию докеров. Сан-Франциско стал полем битвы для самой крупной всеобщей забастовки в истории Америки. И она победила.


Гигантская пирамида корпорации «Трансамерика», кажется, проткнула небо над старинным викторианским домом.
Но настоящая индустриальная мощь Калифорнии не кичится многоэтажностью. С юга к Сан-Франциско примыкает знаменитая Силиконовая долина — обитель электронных и аэрокосмических концернов. Фабрика и арсенал ядерной войны.
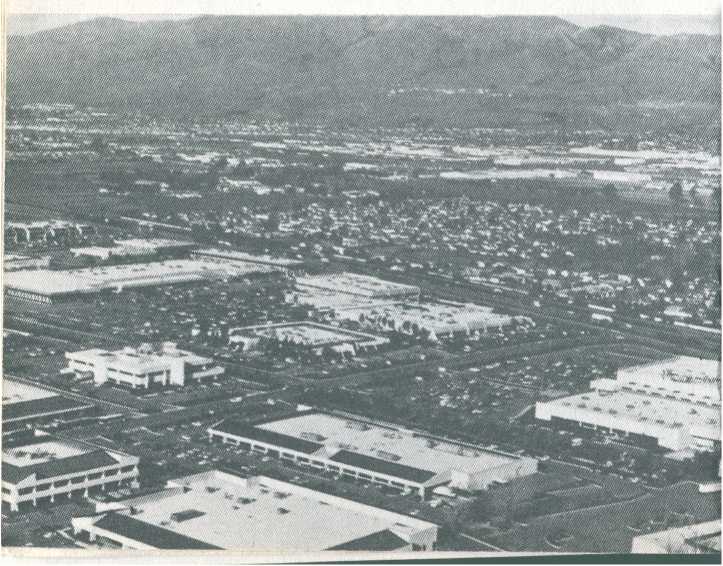
9 Тени на камнях



Норман Мейлер, донкихот ядерного века. Он попытался захватить в качестве заложника... гранитную колонну памятника Джорджу Вашингтону. Мечтал остановить ядерное безумие.



Киногерои Пола Ньюмена решительны, скупы на слова, скоры на действия. Актеру не занимать мужества и в жизни. Свою популярность он сделал оружием в борьбе с ядерной бомбой.

10 Осторожно: психооружие!


Ветерана второй мировой Хозе Круза выбросили на улицу, как старую газету. В зловонную ночлежку он не пошел, поселился на островке посреди шоссе Рузвельта. Ситуация, с точки зрения властей, странная: цветной хочет жить по-человечески.


С 1982 года в Америке поощряют смертную казнь путем инъекции яда. Это подается как грандиозный прогресс в области гражданских прав. Убийца теперь имеет полное право уйти в мир иной без всяких неудобств вот на таком тюремном ложе. Помягче, чем у Хозе Круза.

11 На мосту в прошлое


Рональд Рейган отметил 40-летие Победы в минувшей войне тем, что посетил кладбище гитлеровских солдат в Битбурге. Юбилейный поклон эсэсовцам.


Менгеле, врач-садист, экспериментировавший на узниках Освенцима. Барбье, «палач Лиона». Гелен, руководитель разведслужбы СС. В разное время американская разведка сотрудничала с этими нацистскими преступниками, укрывала их, выправляла им фальшивые паспорта.
«Хайль» произносят сегодня в Америке на одном выдохе с «аминь». В штате Айдахо процветает гибрид религии с неонацизмом — церковь «арийские нации».



Джозефу Половски, рядовому 273-го полка 69-й пехотной дивизии Первой армии США (вверху в центре), посчастливилось обнять советских солдат на Эльбе.
Сорок один год спустя советские и американские ветераны Эльбы встретились в Чикаго. Там был и подполковник в отставке Альберт Котцебу (внизу в центре), командир отряда, в котором служил Джо.

12 Империя страха



Шумел, мешал кому-то в баре играть в покер. Следующее убийство — через 24 минуты.
Эти автоматы, конфискованные полицией города Атланты, — лишь капля в море из полумиллиона единиц скорострельного оружия, находящегося в личной собственности американцев.


С полок аптек убирают болеутоляющее средство тайленол — кто-то подсыпал в ампулы цианистый калий.
В Окленде, штат Калифорния, некто Денис Креста целый час обстреливал прохожих из двух автоматических винтовок. «Немотивированные преступления»,— вздыхают социологи. Жестокое общество мстит само себе.

13 Соединенные Штаты Теократии


«16 человек привлечены к суду. Правительство пытается покончить с нелегальной иммиграцией из Латинской Америки, которую поощряет церковь»,— сообщает «Нью-Йорк таймc».
Но святой отец Джон Файф (внизу слева) непоколебим. Храмы должны давать приют беженцам, считает он. Ведь они бегут от последствий латиноамериканской политики Вашингтона.


Лютеранского священника Дугласа Рота арестовали прямо на алтаре. С библией — в кутузку.
Джону Файфу, основателю движения «Убежище», тоже грозит 30 лет тюрьмы. Что скрашивает его участь, так это поддержка прихожан.


С крестом против ядерной бомбы. По Америке катится волна религиозного пацифизма.

14 Рок-н-ролл на похоронах


«Король рока» Элвис лежит вот здесь, под бронзовой плитой, оборудованной специальным устройством от воров. Его гроб не раз пытались выкопать.
А его девиз «Делай бизнес, и молниеносно!» унаследован такими мультимиллионерами рока, как Майкл Джексон.



В нью-йоркской видеотеке «Тауэр» людно и в полночь. Нарасхват кассеты с записями модных «звезд». Америка празднует свадьбу видеомузы и рока.
15 Америка без Марка Твена




Д-р Шелли Фишер-Фишкин нашла неопубликованное письмо Сэмюэля Клеменса, которое рубит под корень миф о его «расизме».

В письме писатель предлагает заплатить за учебу в Йельском университете студента-негра Уорнера Макгуина. И заплатил. Макгуин стал видным юристом, борцом за расовое равноправие.

Доля черной Америки не стала радостнее с тех пор, как Гек Финн путешествовал на плоту по Миссисипи с негром Джимом. По-прежнему пылают кресты ку-клукс-клана.
А этот снимок я сделал на фешенебельной Пятой авеню Нью-Йорка. Надпись: «Я бездомный, голодный, подайте, кто сколько может!!! Да благословит нас господь».

16 Завещание “Челленджера"


Фрэнсис Скоби. 46 лет, командир «Чэлленджера».

Майкл Смит. 40 лет, пилот.

Грегори Джарвис, 41 год, инженер.

Джудит Резник, 36 лет, инженер.

Рональд Макнэйр, 35 лет, исследователь.

Эллисон Онизука, 39 лет, офицер ВВС.
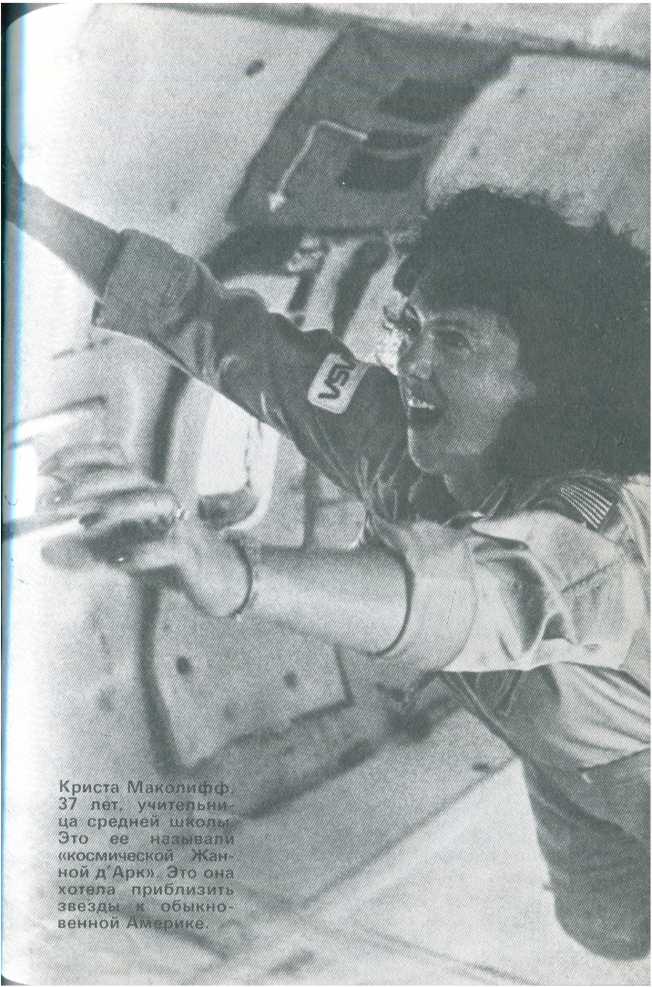



Последние комментарии
7 часов 33 минут назад
7 часов 34 минут назад
9 часов 36 минут назад
9 часов 38 минут назад
2 дней 7 часов назад
2 дней 7 часов назад